Бертольд Бартош родился в Богемии в 1893 г. С 1911 по 1913 гг. — ученик, затем дизайнер у архитектора Гофмана (Вена). С 1913 по 1917 гг. изучает архитектуру и изобразительное искусство. В это время интересуется китайской живописью и философией. Увлечение кинематографом пришло под влиянием проф. Ханслика (директора Института исследования культуры), считавшего кино самым действенным орудием завоевания масс.
По предложению Ханслика Бартош организует мультипликационную мастерскую для выпуска познавательных фильмов (1918-1919 гг.). Создает серию картин, иллюстрирующих социальные идеи Т. Масарика. В 1920 г. переезжает из Вены в Берлин, где Ханслик открыл филиал своего института.
В Берлине Бартош знакомится с Лоттой Райнигер и работает с ней над силуэтным фильмом «Узоры влюбленного сердца». Создает несколько рекламных роликов. В 1922 г. ставит «Битву у Скагеррака» — заказную картину, снятую им за восемь дней. Эти ранние работы не демонстрировались в США.
В 1923-26 гг. Бартош вместе с А. Карданом и В. Руттманом участвует в съемке полнометражного фильма Л. Райнигер «Приключения принца Ахмеда». В книге Уайта «Шагающие тени» о Бартоше сказано:
«Для создания эффекта сверкающих звезд он берет кусок картона с множествам булавочных отверстий и, освещая с обратной стороны, движет перед камерой. Затем отматывает пленку и снимает тот же картон второй экспозицией, двигая в другом направлении. В результате на небе разбегаются звезды — в разные стороны и с разной скоростью. Ничто не могло быть проще и эффектнее».
Подобные эффекты достигнуты им в сцене вьюги из фильма Райнигер «Доктор Дулиттл» и в прологе к собственному фильму «Идея».
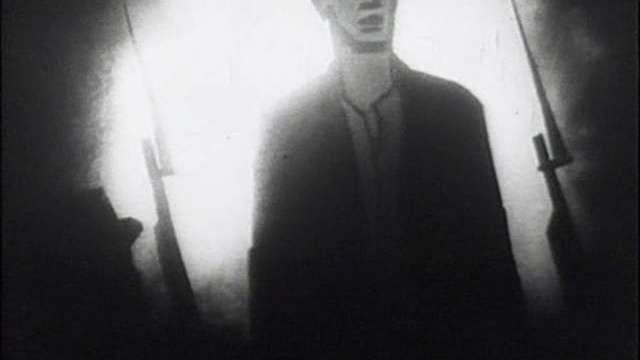
Другим увлечением были морские пейзажи. «Многие годы, — пишет Уайт, — он экспериментировал с волнами путем съемки прозрачных бумажных заготовок многократной экспозицией. Он двигал эти вырезки с таким мастерством, что возникало полное впечатление накатывающихся валов. Сцена, где Дулиттл вместе со своими животными проплывает в лодке через лунную дорожку, неизменно вызывала у публики восторженную реакцию. Л. Райнигер рассказывала, что Бартоша приходилось буквально оттаскивать от камеры, чтобы он не продолжал свои поиски до бесконечности».
В 1930 г. Бартош женился и переехал на жительство в Париж. Снял в 1932 г. тридцатиминутный фильм «Идея». Алексеев назвал эту картину первым серьезным поэтическим и трагическим произведением анимационного искусства. Фильм сделан по одноименной книге бельгийского художника Франца Мазереля, содержащей 83 гравюры. Мазерель намеревался участвовать в постановке, но, увидев трудоемкость и техническую сложность этой работы, отошел и предоставил Бартошу одному завершать картину.
Сам технический уровень фильма является огромным достижением: сорок пять тысяч кадров, многие из которых снимались на нескольких ярусах с многократной экспозицией.
«Многократная экспозиция, — пишет Алексеев, — была важным фактором для Бартоша, поскольку его образы нуждались в метаморфозе. Например, если в кадре двигалось облако, он впечатывал по отдельности четыре элемента этого облака, накладывая их подобно тому, как живописец эпохи Возрождения накладывал один слой краски на другой, достигая невероятно тонких оттенков». Мерцание тумана в сценах ночного города создавало такое лирическое настроение, какого нельзя было ожидать от обычного фотографического способа.
Персонажи «Идеи» составлялись из отдельных кусочков картона. Пейзажи вырезались из кальки различных сортов. Для создания световых эффектов Бартош наносил жидкое мыло на стекло. Снятое через него изображение приобретало мягкость, поражая живостью трехмерного мира Бартоша — мира идеализированных снов и жестокой реальности.
В музыке Онеггера, написанной по готовому фильму, впервые в практике кино использованы электронные инструменты. «Маргенот» — инструмент, названный по имени его изобретателя, — звучал от движения руки вокруг металлического стержня, заряженного электричеством. (Советский инженер Л. Термен изобрел такой инструмент «терменвокс» на десять лет раньше.) Повторяющаяся мелодия сопровождала действие обнаженной фигуры, символизирующей идею, ради которой живут и умирают люди.
Закончив фильм «Идея», Бартош сделал рекламный ролик для обувной фирмы «Андрэ». В качестве делового посредника выступал А. Алексеев: Бартош не умел и не хотел иметь дело с бизнесменами. Задача этого ролика состояла в показе различных видов обуви — для прогулок, для деловых встреч, для игры в теннис, для танцев. Ни туловища, ни ноги в игре не участвовали: действовали только ботинки. Несмотря на врожденный паралич, Бартош превосходно изобразил сцены на теннисном корте и на балу, где одновременно двигались множество пар обуви.
Сапожное дело он выучил от отца, и в этом фильме использовал миниатюрные модели, сделанные необычайно тонко, с полным подобием настоящей обуви.
Между 1935 и 1939 гг. Бартош работал над антивоенным фильмом под условным названием «Святой Франциск» (или «Кошмары и сновидения»). Почти две тысячи футов фильма было уже снято, когда Бартошу и его жене пришлось бежать из Парижа, спасаясь от нацистской оккупации. Негатив и позитив отснятого материала был спрятан во французской синематеке. Ничего из этого найти не удалось. Остались лишь отдельные куски.
После войны Бартош поставил два рекламных фильма «Витрекс» и «Счастливая жизнь». От 1950 до 1959 г. занимался исследованием света и участвовал в работе над космическим фильмом, в котором показывалась бесконечность пространства Вселенной, фантастическое зрелище солнца и луны, движение звезд. Здоровье не позволило ему реализовать этот замысел.
Бертольд Бартош скончался в 1968 году после продолжительной болезни. Клэр Паркер (супруга Алексеева) так описывает свою последнюю встречу с ним: «На своем смертном ложе Бартош все еще говорил о фильме, который многие годы мечтал сделать. Он видел абсолютно четко то, что было им задумано.
— Это должно выглядеть очень просто, — говорил он, — сделать просто очень трудно, но это необходимо. За многие годы работы я многому научился.
И добавил с улыбкой:
— Мыло - необыкновенная штука, с мылом можно сделать все...»
Образ и звук. 1969. январь.
Цит. по: Хитрук Ф. Профессия — аниматор. Т. 2. М.: Гаятри, 2007.