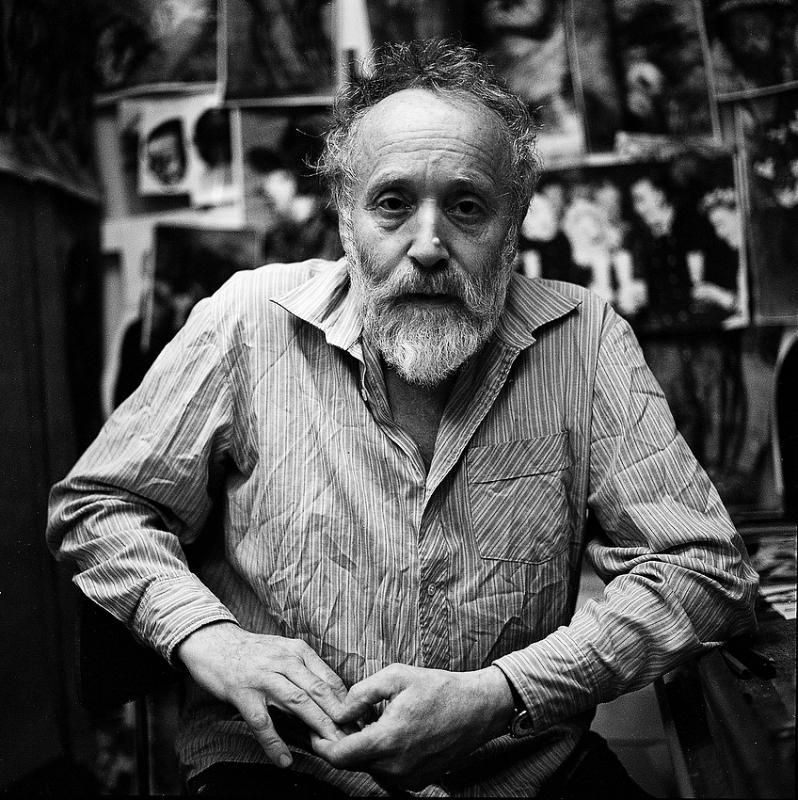
Я долго не был знаком с Климовым. Первый раз мы встретились в 1979 году, на получении Госпремии, он получал за Ларису уже после ее гибели, вместе с ее мамой, и вот тогда мы с ним впервые как-то так переглянулись, взглядами встретились. Наверное, он знал мои фильмы, потому что, когда уже позднее он пришел ко мне в студию, подарил и надписал книгу о Ларисе и, подписывая, упомянул про «Ежика в тумане». А тогда мы просто кивнули друг другу. Вот, собственно говоря, это и было наше, если можно так сказать, знакомство. А потом уже, годы спустя, была работа в секретариате, с чего я и начал. А настоящее знакомство, это был 1986 год, когда одна моя знакомая, которая работала в Союзе кинематографистов, предложила мне показать Климову материал к «Шинели». А нас тогда выставили из павильона на студии, в общем, были проблемы. И Климов собрал на просмотр весь секретариат. Он очень ко мне хорошо отнесся, материал ему понравился. Надо сказать, что он был одним из немногих режиссеров, которые чувствуют качество мультипликации. И, как правило, если режиссер чувствует мультипликацию — это режиссер высокого класса. Вот тогда Климов и начал пытаться мне помочь, хлопотать, возникла эта идея с созданием моей студии в будущем Доме-музее Тарковского. Но потом все это затихло, Элем ушел со своего поста, музея Тарковского так и нет, да и сам дом его на Щипке снесли...
Уже много позже я увидел «Агонию» и оценил картину по самым высшим категориям. Я вообще не понял, как у него могло хватить сил снимать такое кино. Климов мне говорил, что напряжение было таково, что иногда ему казалось, он не выдержит и покончит с собой. Но это все видно в материале фильма, в его сосудистой системе. Он невероятно плотен, он весь пронизан нервным кустом. Это абсолютно очевидно. У него всего шесть фильмов — что это для режиссера такого масштаба? Сколько времени у него украли, сколько сил ушло в прорву! ‹…›
У Климова было редчайшее сочетание — трагедийного дара и невероятного дара комедийного. Комедийный его дар не был рассчитан на массы, быть может, в нем не было открытой клоунады, наоборот, был некий тайный трагизм, которым пронизана и картина «Добро пожаловать», иначе в ней не было бы финальных кадров, когда Дынин среди молочных бидонов с чемоданчиком уезжает из лагеря. У Климова нет желания растерзать этого героя, обличить, растоптать. У него есть сочувствие к судьбе несостоявшегося, быть может, некогда талантливого человека.
Элем Климов. Неснятое кино // М.: Хроникер, 2008.