
Высокое напряжение: фильмы о светилах медицины
Белый снег сковал квадратный, как клетка, кадр. Другой цвет — только черный от голых деревьев и от женской фигурки, меряющей шагами больничный двор. Это — интеллектуальная дива конца 1960-х Алла Демидова. В больницу ее не пускает не врач — муж, с которым они сто раз сходились-расходились и в итоге разошлись. Мужа играет другой главный интеллектуал, Иннокентий Смоктуновский. Сейчас он умирает от сердечной болезни. Возможно, его спасет пересадка митрального клапана — изобретение главврача данной больницы. Но риск очень высок. Фильм называется «Степень риска» (1968).

С этой картины начинается врачебная кинолетопись застоя. Все-таки застой неверно отсчитывать с начала правления Брежнева. Первые четыре года были очень даже нарядными и беспечными: назначались новые выходные праздничные дни, жизнь благоустраивалась, рос международный, особенно культурный, обмен: в кино давали Антониони и Фантомаса. Знаком, что все не так уж радостно, стал ввод советских войск в чересчур развеселившуюся Прагу. Фильм Авербаха вышел ровно через полгода после этого события. Когда души сковал лед.
Картина снята по повести кардиохирурга Николая Амосова, который проводил первые операции по протезированию митрального клапана. Но главное тут — не искания и сомнения профессора. Главное — атмосфера. Зрителя, как обреченного пациента, который, когда ему вводят наркоз, на всякий случай прощается с жизнью, приговаривают к заточению в палате, коридорах и обнесенном чугунной оградой дворе больницы. Посреди зимы.
Этот внезапно сковавший холод — и есть окрик разболтанным 1960-м, их июльским дождям. Бродили? Искали невесть чего? Не рисковали броситься по-простому в вечные отношения? Нате вам испытание смертью. Ведь бродят, мимо друг друга, отделенные стеной, два талантливых, умных человека — а какими еще могут быть Демидова и Смоктуновский? Ведь не случайно умница-профессор их давний друг, называет их по именам, они — одного круга. Но вот настал момент, когда осталась одна альтернатива: жизнь-смерть. И есть одна панацея: наука.

Наука спасения жизни, наука медицины остается единственным спасением и три года спустя, в совсем другой, пестрой, как карандашные рисунки в тогдашних журналах мод, цветной картине Ларисы Шепитько «Ты и я» (1971). Там, кстати, тоже в черном лаковом пальто, элегантно подбодренном желтым трикотажем шапочки и шарфа мается Алла Демидова, пока ее мужчина, видный нейрохирург, от нее бежит. Сперва из Стокгольма: туда он, бросив успешные опыты над собаками, уехал лекарем в посольство три года назад (обратите внимание на дату: он сменил научные изыскания на комфорт в 1968 году). Затем и из Москвы — на какую-то комсомольскую стройку.
Во время охоты, опять же на снегу, он видит собаку: как ему кажется, ту, которой он удачно прооперировал сосуды головного мозга. Взгляд прекрасного Леонида Дьячкова под лисьей шапкой преображается и отдает голубой мудростью волчьих глаз. Он обнимает пса: эта сцена напоминает тот клип Jamiroquai, где к Джейсону Кею приходят на край земли, corner of the earth, разделить тишину и всепонимание волк, филин и удав. Под набат возникает крупный план девушки из стройотряда с забинтованной головой: девушки, которую можно было бы спасти, если бы в 1968-м он не променял опыты над собаками на посольское благополучие. Обретенный им после полутора часов метаний волчий взгляд говорит о том, что он нашел истину.

1973 год. После визита Никсона Брежнев отправляется в кругосветное путешествие налаживать нарушенные пражскими событиями связи. Жизнь налаживается, кровеносные сосуды СССР снова сплетаются с аортами планеты. Героиня Ии Саввиной в «Каждом дне доктора Калинниковой» (1973) уже ни от чего не бежит, ни в чем не сомневается. Сомневаются журналист и представительница Минздрава, приехавшие с инспекцией в ее экспериментальную клинику. Доктор просто ведет свою работу, уверенная в ее необходимости; уже к концу дня инспекторы, так до конца и не разделившие уверенности в научности метода, не сомневаются в действенности клиники и Калинниковой, они напишут отчет, что работы следует продолжать.
Правда, здесь речь не о жизни и смерти (хотя знаменитая балерина, оказавшаяся здесь после аварии, с этим бы поспорила): образ Калинниковой основан на докторе Илизарове, создавшем тот самый аппарат Илизарова, который помогает заживлять переломы и удлинять или укорачивать кости ног.
Постановщик фильма Виктор Титов очень чувствителен к актуальным киностилям: в 1975 году в «Здравствуйте, я ваша тетя» он бесподобно трансплантирует в советское кино только что возникший в Америке стиль «ретро». А в «Калинниковой» он пересаживает больничному фильму образный мир «Соляриса». На широком экране цветные эпизоды прослаиваются монохромными, мертвенно-синими. Героев, беседующих на среднем плане, все время перекрывают полуразмытые фигуры в белых халатах, проходящие, встречающиеся и останавливающиеся прямо перед объективом, заслоняя зрителям обзор. Вот Калинникова вошла утром в еще не проснувшуюся клинику — и чья-то фигурка, которую мы не успели разглядеть, сорвалась и потопала вверх по лестнице, что тот карлик. Казалось бы: стоит ли наводить морок, когда речь всего лишь идет о заживлении переломов, исправлении разной длины правой и левой ноги, хромоты? Но фильм завершается эпизодом психотерапевтического действа, которое для советской публики 1970-х приравнивалось к мистическому. Когда инспекторы уехали, в сумерках Калинникова начинает вечерний прием. Парень приводит брата на костылях. Тот упал и не смог ходить после смерти матери. Калинникова вводит его в транс гипнозом и словами: «Иди ко мне, я твоя мать» заставляет встать без костылей и совершенно ровно пойти. Это лента о том, что в медицине, в деле спасения и улучшения жизни людей, возможны любые расширения сознания и следует отбросить всякую косность.

В 1974 году Даниил Храбровицкий в «Повести о человеческом сердце» уже убеждает в том, что на это могут и должны быть пущены любые госбюджетные средства, совершены закупки за границей на любых условиях. Это лента о заре аорто-коронарного шунтирования. В те годы острый инфаркт — синоним смерти. Первые операции по аорто-коронарному шунтированию были совершены на Западе только в середине 1960-х. От них — прямая нить к дню сегодняшнему, когда пациенту в остром инфаркте даже не вскрывают грудную клетку — вводят под местным наркозом в вену на запястье стент, который расширяет закупоренную аорту, и через два дня тот, под кого полвека назад автоматически спешно сооружался гроб, уже ходит своими ногами. Но тогда это — великий прорыв, ведь от сердечных заболеваний смертность была самая высокая.
Эпопею врача (прообразом послужил тогдашний кремлевский доктор кардиолог Чазов), который пробивает партийное руководство на закупки за десятки миллионов барокамеры и оборудования для подобной операции, Храбровицкий снимает величественно, как полет человека в космос. В 1972 году он безупречно сложил архитектонику брежневской эпохи в «Укрощении огня». Новую картину даже попридержали до середины февраля 1976-го, чтобы выпустить к очередному съезду партии. К сожалению, двухсерийный фильм прошел мимо зрительского внимания, даже ангажированная партией пресса поругивала его за возрождение эстетики 1950-х. Но не в том был ее просчет: тут как раз Храбровицкий шел впереди планеты всей, скоро эта эстетика захватит новый Голливуд — в таких картинах, как «Наваждение» (1976) Брайана Де Пальмы, например. А вот образ выспренной клячи-поэтессы, которая после успешной операции уходит от бравого мужа-испытателя сверхзвуковых самолетов, чтобы волочиться по зимней Ялте за спасшим ей жизнь «старым и толстым как бенедектинский монах» доктором, вышел ужасно пошлым. Фильм прозвучал бы, если бы стал поэмой о человеческом сердце, чему способствовали и патетическая музыка Зацепина, и величественные, с тележки, широкоэкранные съемки барокамеры, и верно, как и в «Укрощении огня», выбранный угол съемки зданий и кабинетов высшего партийного аппарата, где врач пробивает внедрение в СССР шунтирования. Но режиссер, видно, испугавшись разобиженных после обильно обласканного сверху «Укрощения огня» и позавидовавших ему коллег, решил сбавить пафос до повести. Увы, метания поэтессы ему не удались.
И очень жаль, что за этим провалом скрылась очень важная тогда вещь: неожиданный и нужный, шедший в русле тогдашней, времен «Союз-Аполлона» и возвращения Антониони, политики фильм-поэма о величии умения договориться, пойти на условия западных стран, чтобы купить вечную жизнь для советского человека. Храбровицкий одернул себя там, где пафос беспримесной гигантомании как раз был очень уместен.
Разносчики индульгенций: фильмы об участковых врачах и бригадах скорой помощи
Зато гигантомании хватило с избытком в картине-погодке «Повести о человеческом сердце» — ленте «Дела сердечные» (1973), хотя задача там ставилась не в пример более заземленная и простецкая: показать ночь дежурства кардиологической бригады скорой помощи. Но режиссер Аждар Ибрагимов, в будущем ответственный за создание первой и единственной советско-турецкой постановки «Любовь моя, печаль моя» (1978), преподнес это дежурство на 70-миллиметровой пленке, в широком формате, с глянцевой операторской работой Маргариты Пилихиной, построенной на контрастах топкого желтого электрического света и мертвенной синюшности медицинских аксессуаров. Он показывал ночь дежурства скорой помощи так же размашисто и дорого-богато, как в «Экипаже» был показан супер-рейс советского авиалайнера.
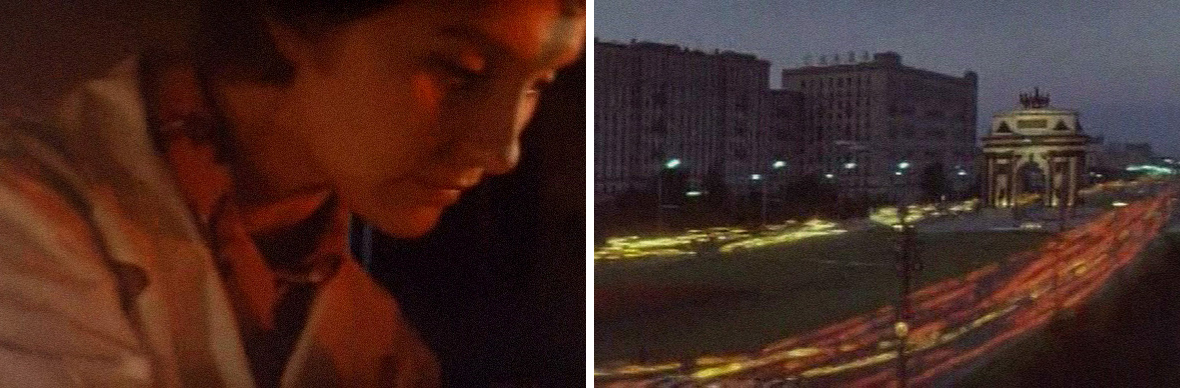
В ночной ускоренной съемке с вертолета бежит огнями Калининский проспект, резким монтажным стыком берется сверхкрупным планом мигалка с сиреной, покачивает отдраенными панелями несущийся на полном ходу корпус автокареты — образ почти космического размаха. Что же касается станции скорой помощи, то ее легко спутать с курортным комплексом в Кортина д’Ампеццо из «Розовой пантеры» — там играют в шахматы, на оснащенной вытяжкой и миксерами кухне готовят разносолы, выплясывают под самые модные песенки, а саму картину сопровождает пританцовывающая приятная музыка. Этот фильм был тем, чем должна была стать «Повесть о человеческом сердце» и чем станет «Экипаж» — одной из тех лент, что успокаивали советских граждан: наши службы работают бесперебойно, и им не за что опасаться. По контрасту с нервотрепкой, которой обеспечивают нас нынешние СМИ, — очень даже благородная миссия, и с медицинской точки зрения в том числе.
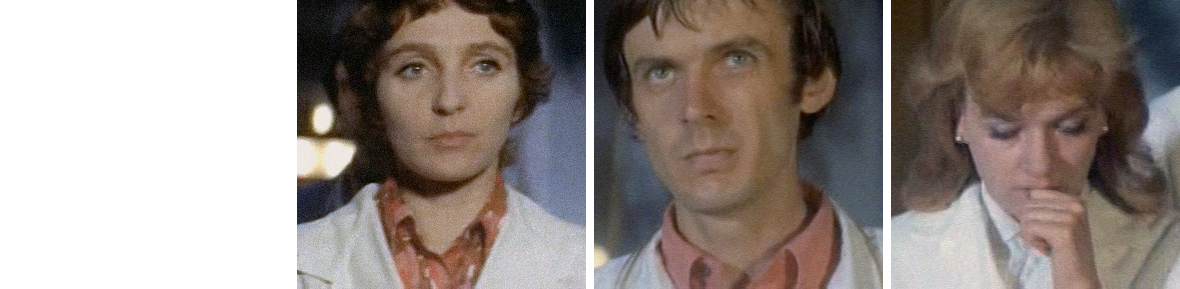
Но обратим внимание на один эпизод: бригаду вызывают в ресторан, где у посетителя подозревают сердечный приступ. Наши герои застают компанию из трех возрастных мужиков и расфуфыренной в невообразимом стиле тогдашней каирской кинопродукции вульгарную мадам, которые выпили две бутылки коньяка и две красного, после чего один из них (как раз тот, что с приступом) разбил витрину. Доктору его приятель пихает деньги, говорит, что он «человек большой и вознаграждение будет соответствующим, а в противном случае пеняйте на себя», но доктор не поддается: налицо симуляция и желание избежать скандала.
В «Делах сердечных», где все укрупнено, и случай взят укрупненный. Куда скромнее подобное явление дано в милой ленинградской ленте «Врача вызывали?» (1974) о буднях молоденькой участковой. Надо понимать, кто такой участковый врач в СССР 1970-х. Дело в том, что тогда не было решительно никакой возможности побыть незанятыми: тунеядство каралось статьей. Единственным шансом откосить хоть на пару недель от общественно-полезных работ был больничный. И участковые, эти хранители заветных бланков, были сродни верховным жрецам римско-католической церкви, в годы инквизиции уполномоченным раздавать индульгенции.

Героиня фильма Вадима Гаузнера пользуется, разумеется, в силу необходимости, своими полномочиями: например, направляет в больницу старика без показаний для госпитализации, чтобы дать ему отдохнуть от пьянок внука, ресторанного музыканта. Видим мы эту же проблему и с обратной стороны. Иногда в мягко-ироничном ключе: когда Зоя Федорова в очереди делится расхожим соображением, что в больнице ведь на всем казенном экономишь средства и, например, прошлое подозрение на спазм ей заработало на демисезонное пальто. Иногда — с укором: докторша вскарабкивается на восьмой этаж без лифта по десятому уже вызову после дневного приема, а там на вопрос «Кто больная?» ей отвечает веселая распаренная баба, стирающая белье в тазу: «Я больная».
Невзирая на мозаичный сюжет и отсутствие больших звезд, фильм пользовался успехом и в дальнейшем прописался в телесетке: в нем была верно угадана эта связь, которая в нашем тогдашнем сознании установилась между образом участкового и «украденными поцелуями» частной жизни. Естественно, частная жизнь участкового, медработника в кино становилась убежищем самых интимных наблюдений. Но давайте посмотрим, как девальвировалось понятие интимной жизни, столкнув два фильма, вышедшие в разные моменты эпохи застоя.
В «Городском романсе» (1970) Петра Тодоровского любовь участкового врача (Евгений Киндинов сверхточно поймал это состояние молодого столичного упакованного парня, которому благополучная предпосылка рождения позволила вырасти в человека без комплексов, говорливого, добродушно-ироничного, не изведавшего отказов, а потому по-здоровому самоуверенного), эта его любовь возникает из метели, в которой кружат и снежинки нот, выпеваемых звонко-ледяным голосом Мирей Матье: Je t’aime, je t’aime, je t’aime, je t’aime, ma chanson est tojours la meme. Это все еще та же черно-белая зима, что сковала персонажей «Степени риска» и закружит героев фильма «Ты и я». Эта зима обещает жизненную оплеуху и поиски выхода. И бредит формулой счастья. Герой Киндинова обаятельно снял на улице девушку — она переселилась к нему из общежития с вещами. Но Гогена, в отличие от его обычных подруг, не знала. Поэтому потратила всю стипендию на альбом про постимпрессионистов. По словам — выходит как у Матье, но нет этого вихря, кружения ее музыки. Киндинову наскучивает, девушку удаляют, вместо нее в его квартире в халате привычно покуривает такая же потомственная, как он, только что с выставки Гогена, подруга детства (редкий шанс увидеть в кино самую неотразимую артистку Театра сатиры Нину Корниенко, нашу Марту Келлер).

И все-таки он чувствует, что что-то потерял. Тодоровский подводит Киндинова к не столь головокружительному, как ритм песни Матье, но реальному выводу: с той, из общежития, он в первый раз в жизни точно знал, что кому-то нужен. А быть нужным — это якорь, это навсегда. При всей внешней легкости, стремительности, эта лента — плоть от плоти кино начала застоя, там и вопросы про душу, и горькие, зато понятные ответы, все по гамбургскому счету.
А вот — конец застоя: частная жизнь медсестры отделения травматологии в фильме «Счастливая, Женька!» (1984). Медработницы в ней глупые, приземленные девчонки, только семечек не хватает, а исполнительница роли Женьки Елена Цыплакова настолько среди них не выделяется (и это отсутствие индивидуальности — общий признак всех советских актрис, пришедших в 1980-х), что режиссеру Александру Панкратову приходится вместо белой, как у всех, надевать на нее синюю шапочку — только так ее сестричка выделится в кадре среди коллег. И заботы у ней не про то, что такое любовь: на любовь она давно положила после развода с таким козлом, что совершенно непонятно, как можно с этим человеком перекинуться парой фраз, не то чтобы в загс, и это еще одно свидетельство женькиной подзаборной глупости. Заботы у ней про то, что подошли импортные сапоги, да больно дорогие — 200 р. А медичка, принесшая их в травму, сказала: ты оставь до завтра, подумай. И Женька заняла 200 р. у коллеги. А в трамвае сумку с сапогами и 200 р. вырвал из ее рук молодой балбес и сбежал. И сидит она как дура на стадионе: ведь если любовь остыла, можно подумать, как ее вернуть и что именно ты собрался возвращать, а сапоги и 200 р. сила душевного напряжения не вернет. И ничего не вернет. Разве что кино, мелодрама, как в «Есении». Приехав вечером со скорой, на которой она дежурит, по вызову, Женька узнает в сыне пациентки своего дневного грабителя.

С середины 1970-х людям начали спасать жизни: Микаэл Таривердиев уже через две недели после инфаркта спокойно жарился на фестивале молодежи и студентов в Гаване, а с начала 1980-х повсеместно начинают открываться кардиоцентры, где внедряется совершенно новая действенная метода реабилитации, совмещающая физическую активность и психотерапию. Вместе со страхом смерти отступает и напряженность душевных исканий. А успокоенность вместо упоения беззаботностью несет беспросветное мещанство.
Один в поле воин: фильмы о земских врачах
Как деградировал застой, можно проследить, выстроив в хронологическом порядке тогдашние фильмы о земских врачах. Вот 1974 год и совершенно бредовая лента Одесской киностудии «Здравствуйте, доктор!», единственный смысл сохранить которую — участие великолепной Татьяны Веденеевой в роли сельской медсестры, которая демонстрирует мини и танцует. Столичного врача (Василий Лановой), готовящего диссертацию по какой-то особенной язве, главврач не допускает до операций, даже когда язва — «его». Чтобы снять стресс, он едет в деревню к тетке сотрудника — а там, как на подбор, все, включая председателя, держатся за бока: это позволяет врачу развить бурную исследовательскую деятельность. Выхаживая председателя, врач узнает: если остаться здесь земским врачом, то, в сотрудничестве с партийными органами, заинтересованными в том, чтобы люди оставались в деревне, можно строить пансионаты для пенсионеров и всячески благоустраивать медицинское обслуживание на месте.

Четыре года спустя другой модный врач, правда, из Саранска, в исполнении Евгения Киндинова, летит в деревню, где местный земской доктор так принимает хирургов из областного центра, что они сбегают оттуда, даже не приступив к операции, как гувернантки от детей полковника Круппа в «Звуках музыки». Фильм называется «Срочный вызов» (1978), режиссер Геральд Бежанов. Здесь тема сотрудничества земских врачей и партии даже не поднимается. Укротив, а заодно подлечив вздорного старика, Киндинов узнает от него, что нельзя быть профессионалом узкого профиля: важно знать пациента с рождения, сочувствовать его жизни, понимать человека в комплексе, становиться ему своего рода исповедником и душеприказчиком. По факту: в стране началась эра дефицита, оснащение больниц начинает хромать, и докторам вменяется компенсировать душевной заботой прорехи в госбюджете.

Душевное целительство помогает новому главврачу дома престарелых в фильме Николая Губенко «И жизнь, и слезы, и любовь» (1983) поднять с каталок неходячих постинсультных старцев. Любовь заставляет заговорить тех стариков, у кого парализованы речевые центры, вместо партийных дотаций на выручку приезжает по личной просьбе главврача старик Козловский. Он поет: «Я встретил вас, и все былое», — и старики перестают хворать. До кучи им разрешают пить, курить, держать собак. Приятное впечатление производит старуха в платке и очках с толстыми стеклами, она режется в карты, как заведенная. Геронтологическая тема звучит весьма фантастично, хотя в художественных координатах самого фильма это искупается комичностью: все выглядит как взбесившийся пионерлагерь, где ябед, горластых поборниц дисциплины и отпетых нарушителей, как в «Сказке о потерянном времени», играют старики и старухи. Эта забота о душе — совсем не то же, что искания молодого Киндинова в «Городском романсе». Это уже другая стадия — когда о душе предлагают подумать (и даже разрешают восьмидесятилетним водку и сигареты), потому что денег на материальное уже нет.

Наконец, в Ленинграде в 1984 году дебютант Вячеслав Сорокин в картине «Жил-был доктор» выбалтывает такую правду о состоянии советской медицины, что его картину чуть было не кладут на полку — но тут как раз меняются времена, и фильм в конце января 1986 года выпускают в канун горбачевского съезда, где объявят курс на гласность. Партийные органы на экране уже не только не помогают благоустраивать сельские больницы, они мешают это делать даже на чистом энтузиазме земских врачей. Пристройку бани для больных замораживают, потому что по разнарядке ее должна строить спецбригада, а не врачи и нанятые ими плотники из деревни. Но бригаду, естественно, не присылают — да и не обещали, просто строить самим запретили. Доктор колет дрова и носит воду заболевшим старухам — потому что в больнице мест для них нет.

Символично, что этот доктор приехал в это село из города шестнадцать лет назад, то есть в 1968 году, в год «Степени риска». А мир все так же скован снегом. Но есть разница. «Тогда я приветствовал трудности, — признается доктор. — Теперь я их просто терплю». Забыты уже даже лозунги о человечности. Забота о здоровье брошена на совесть одиноких энтузиастов конца 1960-х, да и тем ставят рогатки. В этом фильме, как и в «Городском романсе», тоже звучит французский хит 1969 года. Но не «Я тебя люблю, я тебя люблю, песнь моя неизменна» Мирей Матье, а другая, Генсбура и Биркин: «Я тебя люблю... А я — уже нет».