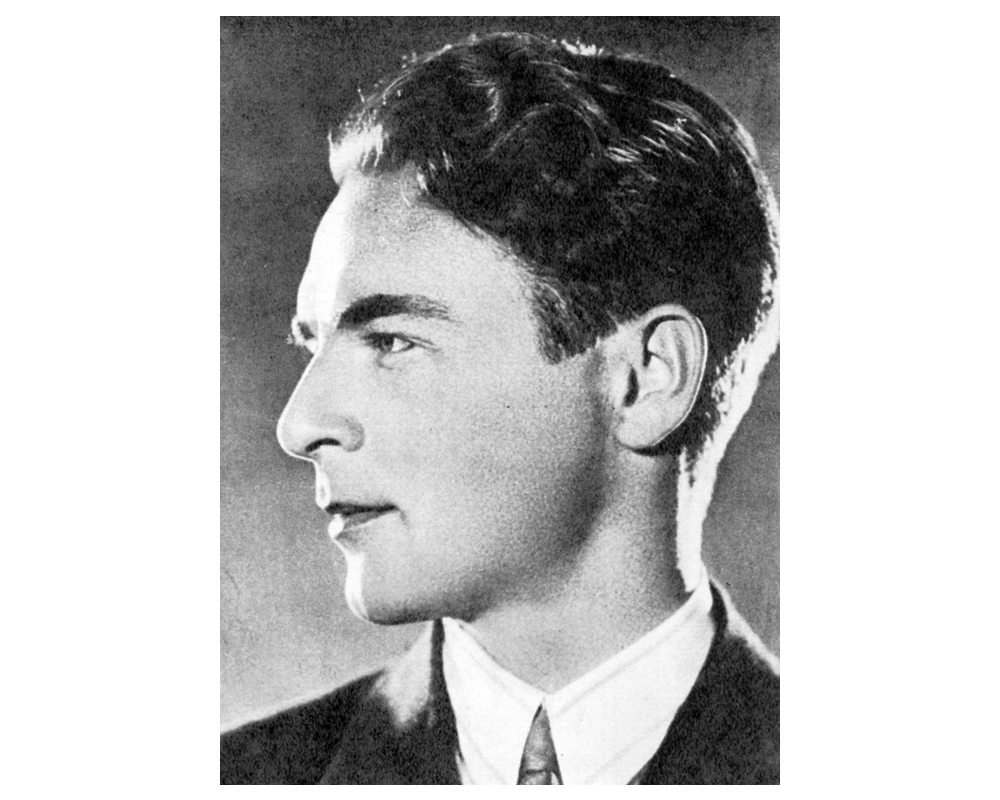
После прошлогодних выпусков «заграничных боевиков» производство взяло наконец правильный курс на советскую фильму.
Картина «Особняк Голубиных» — научно-художественного характера, она затрагивает больной вопрос о туберкулезе; в интересно сделанном сценарии наряду с развертыванием действия удачно представлено развитие ужасного бича человечества. Действие начинается в дореволюционное время; показана богатая жизнь особняка и жизнь темного, сырого подвала.
Наконец, показаны меры борьбы Советской власти с туберкулезом.
Режиссер Гардин удачно справился с заданием по выполнению научно-художественной фильмы: хорош подбор артистов, из коих следует выделить молодую артистку Карцеву в роли Ксюши. Переход от 1917 года к нашему времени дан в интересной и оригинальной мультипликационной съемке.
Васильев Г. «Особняк Голубиных» // Жизнь искусства. 1925. № 16.
(4-я серия. «Стэнлей в дебрях Африки»)
Последняя серия является, несомненно, самой нелепой и слабой из всей этой картины. В предыдущих сериях были использованы всевозможные трюковые комбинации очередная серия изобилует различными природными «трюками»: налицо обвал горы, по заказу происходят песчаная буря — самум и тропический ливень, смывающий все на своем пути, и все же герои картины, конечно, всегда невредимы и выходят «сухими» из любого положения. Обширная мало исследованная Африка нисколько не смущает героев картины: они запросто встречаются, попадают в нужные места и находят друг друга среди тропических лесов и песчаных морей, как у себя дома. Обидно, что столь интересная сама по себе тема об исследованиях знаменитого путешественника Давида Ливингстона в дебрях Африки в 1860-1870-е годы преподнесена в такой халтурной, дешевой постановке. Любовно-приключенческий роман двух героев приплетен неизвестно к чему. В результате налицо бессодержательный, скучный многосерийный «боевик».
Васильев Г. В пучине водопада // Жизнь искусства. 1925. № 20.
Сюжет картины затрагивает весьма интересную и злободневную тему — карьеру председателя текстильного треста на фоне борьбы частного торговца с кооперацией. Частный торговец, в ущерб кооперации, вовлекает председателя текстильного треста в темную комбинацию. И вот этот слабовольный человек поддается соблазну и «угорает» в атмосфере нэпа. В итоге — расплата: заблудший несет должное наказание, раскаивается и вновь становится честным человеком.
К сожалению, картина воспроизведена крайне слабо и неудачно. Из рук вон плоха и бессильна режиссерская сторона; весьма слаба и техника работы. Но окончательно подрывает картину исключительно бездарная игра артистов: махание руками, какие-то невероятные «переживания» и гримасы делают все их движения и сцены неестественными и натянутыми.
Васильев Г. «В угаре НЭПа» // Жизнь искусства. 1925. № 49.
В основу фильмы взята аджарская легенда о маяке, который по злому умыслу выжившего из ума старика — мстителя за поруганный семейный очаг подмигивал по ночам проходившим мимо судам и топил их без зазрения совести, компрометируя бдительность местных лоцманов. Эта легенда (о подлинности ее у аджарцев лучше не спрашивать) развертывается перед зрителем на протяжении 7-ми частей, вызывая определенное тяготение разойтись по домам. Зависит ли это от сценария или от режиссера — сказать трудно, но картина страдает такими неточностями, которые должны бы сконфузить постановщиков. Например: жена старика, из-за которой загорается весь сыр-бор, совершенно не поддается влиянию времени и продолжает оставаться 20—25-летней женщиной, несмотря на то, что она уже имеет дочь в таком же возрасте! Социальная окраска придана картине довольно примитивно: влюбленный студент убивает своего соперника —
Васильев Г. «Тайна маяка» // Жизнь искусства. 1925. № 46.
Наконец-то, после долгих усилий, ленинградское отделение Госкино выпустило в свет одну из своих первых работ, заснятую еще прошлой зимой. Сценарий С. А. Гарина трактует вопрос о судостроении и зарождении нашего торгового флота. Картина начинается с момента дебатирования этого вопроса в Москве, где борются два течения.
Одно, во главе с кучкой «спецов» и подозрительных дельцов, стремится отдать заказы за границу, другое стоит за возрождение судостроения у себя в стране, главным образом в Ленинграде, чтобы тем самым восстановить заглохшие за годы войны и разрухи
В общем, приходится констатировать наличие удачно сделанной работы. К сожалению, картина снята слишком мелко; не без греха и техническая сторона.
Васильев Г. «Вздувайте горны» // Жизнь искусства. 1925. № 47.
К выпуску этой фильмы «Межрабпом-Русь», вероятно, подтолкнуло стремление дать картину «под заграницу» (влияние прошлогоднего репертуара: «Дитя цирка» и ряд других цирковых картин). Однако фильма эта является крайне неудачной и, несомненно, самой слабой из всех ранее выпущенных этой фабрикой картин. Прежде всего сценарий. Хотя постановщики и уверяют, что это комедия, но просмотреть такую картину — сущая трагедия. Скучный, никому не нужный сюжет, несвязность и нелогичность отдельных эпизодов, наконец, чрезмерная растянутость действия заставляют зрителя с трудом смотреть эту «комедию». Даже технически картина бедна, а неряшливый монтаж довершает свое дело. Если фильма скучна взрослому зрителю, то тем более — детям, для которых она главным образом и выпущена.
Хочется лишь отметить малыша в роли Гриши, который добросовестно проводит свою неимоверно длинную роль.
Васильев Г. «Дитя Госцирка» // Жизнь искусства. 1925. № 47.
Культкино поставило себе задачей выпуск серии научно-популярных фильмов по целому ряду больных и жизненных вопросов. В прошлом году мы познакомились с одной из таких работ (картина «Аборт»), теперь Культкино продолжает начатую линию.
Скользкая тема (величайший бич человечества — сифилис) преподнесена зрителю в умело разработанном сценарии. На фоне развития действия зрителю показываются причины и обстановка заражения, необходимость своевременного лечения, а также вредность сокрытия и запущения болезни. В картине удачно переплетены случаи заболевания в городе и деревне, а также противопоставлено лечение средствами медицины шарлатанским и невежественным приемам деревенского знахарства. Не претендуя на какие-либо кинофокусы как в смысле постановки, так и в смысле техническом, картина выделяется своим простым, естественным сюжетом, не загромождена диаграммами и цифрами, все «опасные» места дополнены невнятными надписями, и это делает фильму интересной, нужной и полезной одинаково как городу, так и деревне. Весьма кстати, по ходу действия, введена работа кинопередвижки в деревенской избе-читальне.
Васильев Г. «Правда жизни (Сифилис)» // Жизнь искусства. 1925. № 47.
Все чаще и чаще на наших экранах — картины производства Госкинопрома Грузии, показывающее различные моменты борьбы за свободу из недавнего прошлого мало известной нам Грузии. На этот в сценарии затронута уже неоднократно использованная тема революционной борьбы грузинского рабочего и крестьянина в период свержения старой власти, когда в Москве была уже одержана победа, а в Грузию доходили о том лишь непроверенные слухи, всячески заглушаемые. И вот рабочий Гарун начинает борьбу, постепенно втягивает в нее все население местечка, и наконец ценою тысяч жертв красное знамя свободы водружено.
Картина сделана неровно: вялая, скучная завязка дает к середине действия интересные моменты нарастания: сцена побега из тюрьмы, игра безногого — все это оживляет развитие действия и привлекает внимание. Но к концу интерес падает и удачный подъем в середине картины сводится на нет.
Васильев Г. «Ценою тысяч» // Жизнь искусства. 1925. № 50.
Попытка нашего монтажера сделать из этой фильмы что-либо социально весомое, сюжетно и технически интересное, не увенчалась успехом, так как фильма сама по себе уже испорчена режиссером, показавшим, как можно хорошо начать и плохо кончить. Начато эпизодом в театре, где дебютирует артист. Находясь в исключительно скверном материальном положении, он требует у антрепренера денег на лечение своей умирающей жены, грозя в случае отказа сорвать спектакль. Как водится, антрепренер скуп и черств.
Отказ... и артист убивает антрепренера, после чего поселяется на время в местной тюрьме. По выходе артиста из тюрьмы растерявшийся режиссер строит пакости и без того убитому судьбой бывшему артисту, знакомит его с шайкой фальшивомонетчиков и всучивает ему довольно неприглядную роль наводчика. Волею правосудия, а отчасти и хитростью режиссера вся шайка попадает в руки бдительной полиции (облава, грузовики, полусотня «гороховых пальто»), и герой, в конце концов утомленный всей этой канителью, умирает от случайной пули на радость себе, утомленной полиции и не менее утомленного зрителя.
Реализм исчерпывается полудюжиной пестрых (только в Америке) крыс, дабы зритель наиболее остро почувствовал, что лестница, на которой гуляют крысы, черная и ведет в лачугу. «Хитроумная» система потайных дверей, доступная для обнаружения двухмесячным ребенком, — потуга дать фильме форму детектива. Персонажи бесцветны, неинтересны и не увлекают зрителя.
Почему именно — «Черный грот»? Название «Наивный актер» или «Не проси у антрепренера аванса» куда лучше.
Васильев Г. «Черный грот» // Жизнь искусства. 1925. № 50.
3-я фабрика Госкино, специализировавшаяся до сих пор на деревенских фильмах, выпустила на этот раз картину из эпохи гражданской войны, затронув крайне интересную и еще неиспользованную тему. Жена белогвардейца при оставлении белыми городка остается для связи со «штабом» — и вскоре становится секретарем ревкома, а оттуда недалек путь и в жены предревкома. И вот председатель ревкома, революционер, не имевший личной жизни, полюбив свою жену, узнает, что она шпионка: правда, она также полюбила его, она хочет прекратить свою гнусную работу, но уже поздно. И в душе предревкома происходит борьба. В результате преданность революции побеждает: он назначает заседание ревкома и выносит должное постановление шпионке.
Режиссер Иванов-Гай удачно воспроизводит эту интересную тему, дав последовательно развивающееся действие. Мужской персонал дает ряд ярких и характерных революционных типов. Хорошее развитие действия заставляет со вниманием и интересом смотреть эту картину.
Васильев Г. «Жена предревкома» // Жизнь искусства. 1926. № 1.
«Редко да метко» — так можно охарактеризовать работу Ленинградской фабрики Госкино, выпустившей эту вторую свою работу. «Тяжелые годы» показывают нам жизнь рабочего и его семьи, претерпевших на своем жизненном пути различные невзгоды. Пролог картины затрагивает момент первых революционных вспышек — 1905 год, моменты грубого полицейского засилья. Далее — февраль, переход к Октябрю и затем все тяжести первых революционных годов — голод, холод, вселение, товарообмен, топливный кризис, бандитизм, спекуляция. Все это вплетено в картину, показывающую нам в конце концов не жизнь отдельной семьи, а жизнь всей страны — целую эпопею всех памятных тяжелых годов.
Режиссер Разумный, совмещая в себе одновременно сценариста, оператора и режиссера, прекрасно справился с заданием, дав ряд характерных, всем знакомых сцен, эпизодов и типов тяжелых годов. Удачная натура, хорошее освещение — всегда слабое место в наших картинах — немало способствуют успеху картины; излишняя эпизодичность порой затемняет основную фабулу и крайне удлиняет картину, последние части немного утомляют однообразием фона натуры (все заборы). Интересная тема «Тяжелых годов», конечно, не вмещается в рамки одной картины; отдельные моменты могли бы получить развитие в самостоятельном сценарии. Артистический ансамбль дает ряд характерных типов и фигур.
Васильев Г. «Тяжелые годы» // Жизнь искусства. 1926. № 1.