Стремясь соединить в единую картину великое и малое, прошлое и настоящее, человека и событие и не полагаясь лишь на само изображение действия, авторы, обращаясь прямо в зрительный зал, еще и размышляют по поводу происходящего — то и дело мы слышим голос автора.
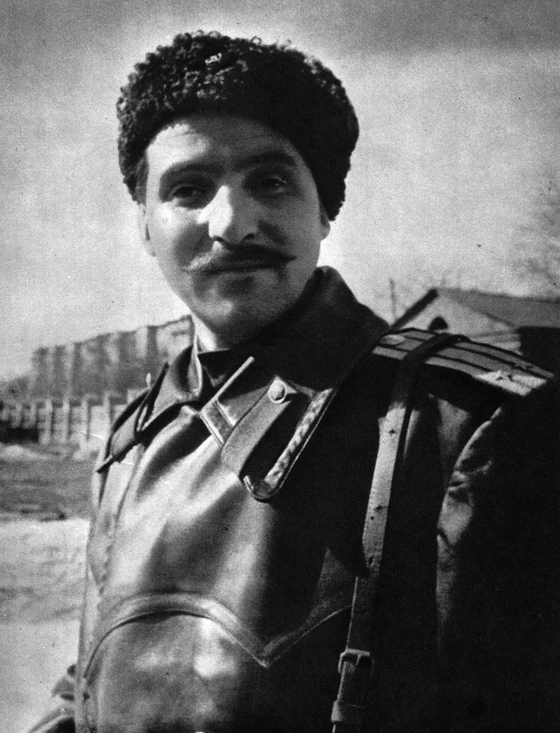
Так в начале фильма Синцов прощается на вокзале с Машей, они договариваются, куда писать, а голос автора говорит: «Они еще не могли представить себе, что ничего, ровно ничего из того, о чем они сейчас говорили, уже долго, а может быть, и никогда не будет в их жизни: ни писем, ни телеграмм, ничего».
А в финале, когда дивизия после длительного отхода пошла в наступление, тот же голос комментирует: «Трудно, трудно привыкнуть к мысли, что, как бы много уже всего ни оставалось за плечами, а впереди еще была целая война».
Здесь голос автора производит сильное впечатление, нечто подобное, наверно, чувствовал зритель античной драмы, когда хор сообщал, что было с героем до появления на сцене или что обязательно произойдет с ним потом.
В большинстве же случаев комментарий не производит такого впечатления, и это происходит потому, что комментарий, как правило, не углубляет действие, а заменяет его. Мы это чувствуем, в частности, в сцене, где из горящего советского самолета прыгает с парашютом летчик. Он лежит, раненый, а диктор рассказывает о его судьбе:
«На земле лежал человек, никогда особенно не боявшийся смерти, но сейчас ему было страшно до отчаяния. Он со злобой думал о том, как фашисты будут стоять над ним и радоваться, что он, мертвый, будет валяться у их ног. Он был бы рад, если бы фашисты, придя сюда, нашли тело того никому не известного старшего лейтенанта, который четыре года назад сбил свой первый „Фокер“ над Мадридом, а не тело генерал-лейтенанта Козырева. Он впервые в жизни проклинал тот день и час, которым раньше гордился, когда после Халхин-Гола его вызвал сам Сталин и, произведя прямо из полковников в генерал-лейтенанты, назначил командовать авиацией целого округа. Сейчас, перед лицом смерти, ему некому было лгать. Он не умел командовать никем, кроме самого себя, и стал генералом, в сущности, оставаясь старшим лейтенантом. Говорят, человек перед смертью вспоминает всю свою жизнь,
может быть, и так, но он вспоминал перед смертью только войну! Говорят, перед смертью думают сразу о многом, может быть, и так, но он перед смертью думал только об одном — о войне. Он все-таки сбил сегодня еще одного фашиста... тридцатого и последнего.
В его душе не было предсмертного ужаса, была лишь тоска, что он уже никогда не узнает, как все будет дальше».
Что и говорить, ситуация в высшей степени драматична, однако фигура летчика на экране оказывается лишь кинематографической иллюстрацией к тексту романа.
Комментарий мог бы разнообразно усилить действие, если бы не возникал в картине по одному и тому же поводу:
«Серпилин знал то, что еще не знали ни Синцов, ни Мишка. Он знал, что если за эту ночь не придет приказа отступить, то он со своим полком обречен на бои в окружении. Но он не только не ждал, но и не желал приказа отступать. Им владела гордость солдата, не хотевшего верить, что рядом с ним кто-то плохо дерется, отступает или бежит».
Или: «Никто из них не знал, что уже несколько часов тому назад немецкие танковые корпуса прорвали западный фронт и, давя наши армейские тылы, развивают прорыв на десятки километров в глубину. Никто из них еще не знал, что эта вынужденная задержка у мостов, в сущности, уже поделила их на живых и мертвых».
Или еще: «Ни Серпилин, ни шедшие с ним люди его дивизии не знали еще полной цены всего уже совершенного ими. И подобно им, полной цены своих дел еще не знали тысячи других людей в тысячах других мест. Они не знали и не могли знать, что генералы еще победоносно наступавшей на Москву, Ленинград и Киев германской армии через пятнадцать лет назовут этот июль сорок первого года месяцем обманутых ожиданий, успехов, не ставших победой. Они не могли предвидеть этих будущих горьких признаний врага. Но почти каждый из них тогда, в июле, приложил руку к тому, чтобы все именно так и случилось».
Как и в сцене с подбитым летчиком, огромной силы комментарий лишь говорит о слабости самого действия, которое он не углубляет, а подменяет собой.
Фрейлих С. Устарел ли эпический роман // Фрейлих С. Чувство экрана. М.: Искусство, 1972.