В 1951 году я пришел в первый класс 167-й особо образцовой школы. Класс был интересный. Все десять лет я отсидел на одной парте с Левой Додиным, ныне одним из самых крупных театральных режиссеров. Другим моим близким школьным товарищем был Лева Васильев, замечательный поэт, по жизни предельно неприкаянный и очень одинокий человек. В сравнении с тем, как жил он, образ жизни бомжа, наверное, покажется добропорядочным мещанским существованием. Связи, образовавшиеся у меня уже в первом классе, как оказалось, имели для будущей жизни существеннейшее значение. От того, с кем учишься, с кем болтаешься по жизни первые пятнадцать-двадцать лет, зависит очень многое.
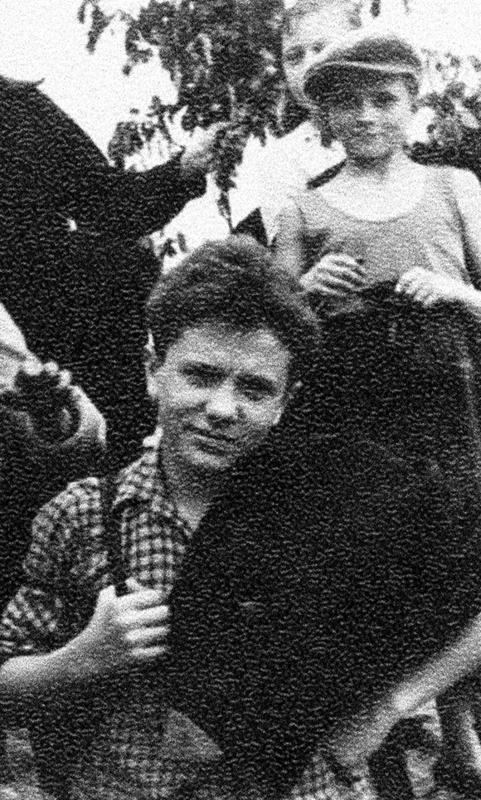
Руководил нашей школой Марк Семенович Морозов. Название «образцовая» оправдывалось следующими его нововведениями. Все вплоть до седьмого класса (я пришел в школу, когда она была еще мужская) ходили подстриженные под ноль. До сих пор помню зрелище поблескивающих черепов, особенно впечатляющее в сумеречные часы. Можно было отвлечься от того, что говорили учителя, и погрузиться в изучение форм черепов. Колоссально интересное занятие! Одни черепа были круглы, как бильярдные шары, другие впечатляли нестандартностью изломов. Какой выразительный череп был у мальчика по фамилии Мехельсон!
Другое нововведение заключалось в том, что одеты все мы были в сталинские мундиры, только черненькие: френчики с двумя карманами на груди. До седьмого класса мундирчики были с отложными воротничками, начиная с седьмого — — со стоячими. С седьмого класса допускались послабления по части шевелюры: можно было стричься под легкий бобрик. Начальные классы школы размещались на первом этаже, а под ними, в подвале дома — — ликеро-водочный завод, который, по-моему, не могут выселить и по сей день. Все десять лет обучения мы проходили слегка пьяноватыми, поскольку дышали чистейшими спиртовыми газами, проникавшими в классы сквозь щели. Какое же, наверное, замечательное сюрреалистическое зрелище являли собой мы со стороны: маленькие черепастые человечки в арестантских сталинских мундирчиках, и все, как один, вроде бы слегка выпимши. Что же до освоения знаний, то по этой части успехи мои были довольно убогими.

Самым близким моим товарищем по школе был Лева Додин.
Если социальный облик моей семьи представлял собой смешение несовместимых укладов, то у Левы семья была изумительная и превосходно интеллигентная. У моих родителей разница была в семнадцать лет, у левиных — возрастной разницы не было, но они казались мне людьми очень пожилыми. ‹…› Еще в их семье жила замечательная женщина, левина тетя, звали которую Люба — она-то, собственно, и занималась повседневным воспитанием Левы, заодно и моим. Воспитание это было самым что ни на есть изысканным.
У них была по тем временам прекрасная квартира, выходившая окнами на Овсянниковский сад, на тот самый сад, где когда-то сломали шпагу над головой не то Достоевского, не то Чернышевского. По-моему, все-таки Достоевского. Квартира, естественно, была коммунальная (других тогда не было), но двухуровневая, почти двухэтажная — — из одной комнаты в другую можно было перейти, поднявшись по скрипучим высоким ступенькам. Воспитание началось с курева. Мы учились тогда во втором классе, но уже потянуло нас поинтересоваться, что это такое. Лева был случайно пойман в уборной с дымящимся остатком папиросы, которую оставил ему докурить я. Тетя Люба огорчилась и сказала: «Ребята, курить в уборной вредно — — там тесно, мало воздуха. Курите в комнате». От этих слов мы с Левой похолодели. А тетя Люба стала регулярно покупать для нас «Беломор», выкладывала его на стол вместе со спичками.
Не остановившись на этом, тетя Люба дала нам как-то по тридцать копеек сходить в кафе «Мороженое». Тогда заведения эти по воскресениям посещали родители с ополоумевшими от счастья детьми, посредине недели в этом самом кафе закинув ногу на ногу сидели «стиляги» с коками на голове и зелеными галстуками с обезьянами. К ним-то и мы, лысые третьеклассники, однажды и присоединились. Кафе было рядом с кинотеатром «Титан». Мы уселись за столик, заказали по сто пятьдесят грамм мороженого и почти сразу закурили «Беломор». Но тетилюбиного духа либерализма здесь не оказалось и в помине, почти сразу нас выставили, не дав нормально доесть мороженное, я уже не говорю про курево. Тут мы поняли, что у жизни все-таки две стороны — — либеральная личная и жестокая общественная, где нужно весьма осторожно высказывать свои привычки и наклонности.
Первые два года обучения Лева был мне очень дорог еще по одной причине. Я приносил с собой из дома завтраки с сыром, который не любил (то, что я не любил, мама почему-то считала особенно для меня полезным), Леве же тетя Люба нарезала бутерброды с твердокопченой брауншвейгской колбасой. Несмотря на то, что Лева, по-моему, сыра тоже не любил, он щедро угощал меня своими бутербродами, уныло сжевывая мои. Лева был очень благородным и совсем невеличественным мальчиком. И выражалось это совсем не только в дележке бутербродов. Проявлялось это во всем.
Соловьев С. Асса и другие произведения этого автора. Книга первая: Начало. То да сё... СПб.: Сеанс; Амфора, 2008.