Когда я закончила «Сашу», сценарист Георг Эдуардович Гребнер предложил мне работать над его сценарием культурфильма «Игрушки» (это был 1930 год). В сценарии речь шла в основном о производстве русских кустарных деревянных игрушек, захватывая развитие детских игр и игрушек разных эпох, начиная с доисторических времен.
Опять пришлось начинать борьбу за право постановки, опять начались длиннейшие разговоры с дирекцией... Любопытно, что начальник сценарного отдела «Руси», милейший Александр Николаевич Андриевский больше всего интересовался тем, сколько я хочу получить зарплаты, а я ему отвечала, что для меня важнее всего не зарплата, а оператор, ибо в данной картине хороший оператор особо важен. Коммерческий же директор фабрики совершенно не говорил о деньгах — он интересовался только художественными вопросами. После долгих мытарств мне удалось получить отличного оператора — это был А. Шеленков, тогда молодой гетековец, совершенно неизвестный, но подававший (и оправдавший) большие надежды.
В картине «Игрушки» было около сорока эпизодов с детьми дошкольного возраста и несколько детских массовок (до шестидесяти человек). Детские съемки — дело трудное, к счастью, я люблю возиться с детьми, и поэтому на работе не мучилась. По-моему, самый удобный возраст детей для съемок — шесть-семь лет (это в большинстве случаев). Но не всякого ребенка можно снимать, не со всеми это получается. У детей более ослабленное торможение, чем у взрослых, от этого они меньше стесняются, легче заинтересовываются, просто и непосредственно выполняют сложные задания, несмотря на отсутствие актерской техники. Но бывают случаи, когда даже после многочасовых проб от ребенка ничего нельзя добиться — таких отправляешь домой.
Самый большой вред на съемках приносит присутствие родителей. Во-первых, дети, как правило, их стесняются, во-вторых, у родителей есть своя собственная точка зрения на поведение и красоту своих детей. Одна мать так и не дала сняться ребенку, потому что все время повторяла :
— Володя, не горбись, это некрасиво...
Я с удовольствием вспоминаю одну девочку, с которой легче всего было работать. Ей было семь лет. На съемку девочку привела мать и спросила: — Кирочка, ты останешься с тетей? Кирочка ответила: — Да, я останусь с тетей.
После этого она подошла ко мне и взяла за руку. Мать ушла на работу. На съемках девочка была в полной моей власти, когда ей что-нибудь было надо, она обращалась только ко мне. Она работала превосходно, естественно выполняя самые сложные актерские задания. В одной сцене Кирочке надо было сердиться и топать ногами; я увидела, что это дается ей очень трудно, и забеспокоилась. Вдруг сзади меня раздается голос: — Да она у нас и дома никогда не сердится... Оказывается, на съемку пришла бабушка Киры, пришлось удалить бабушку из павильона, и девочка отлично выполнила задание. Вот что значит, когда на детской съемке присутствует кто-нибудь из «своих»! С Кирой я сняла тридцать шесть планов, и при этом пришлось дублировать только три из них.
С детьми из детских садов было работать труднее — они слишком привыкли друг к другу, меньше стеснялись, подстрекали друг друга на шалости. Однако, когда «большую массовку» отпускали домой, все дети (будь они из детского сада или приглашенные «в розницу»), плакали одинаково — требовали продолжения съемки.
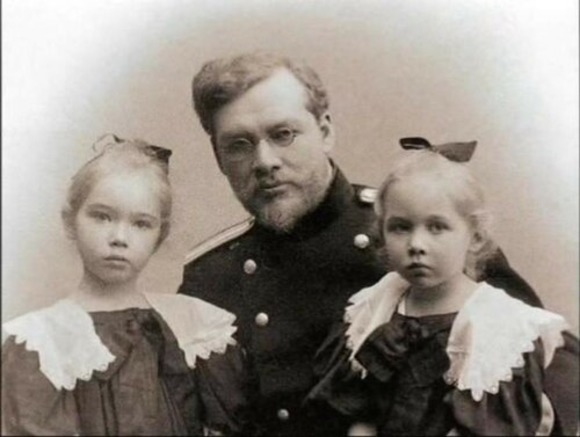
Совершенно особо снимались доисторические эпизоды. В них голые дети должны были играть камнями и кореньями среди девственного первобытного леса. Съемки происходили в ноябре, а павильоны в те времена отапливались плохо. Нам пришло в голову пригласить на роли в этих эпизодах маленьких цыганят из табора, привыкших в любую погоду ходить полураздетыми. Мы поехали искать табор и нашли его в районе Марьиной рощи. Ряд палаток был расположен в огороженном дворе, по двору ходили цыганки в ситцевых платьях, с шалями, накинутыми на плечи. В одной из палаток сидели мужчины в длинных сюртуках и шляпах. Около палаток на промерзлой земле возились полуголые дети. Мы договорились с цыганами, отобрали двух мальчиков и одну девочку шести лет и сказали, что на второй день приедем, чтобы взять детей на съемку. Нам обещали, что все будет в порядке, но когда мы на второй день приехали, то нас ждали только двое детей — мальчик и девочка, а второй мальчик убежал в город. Нам пришлось опять выбирать «артиста». Молодой цыган — переводчик, комсомолец — стал нас уговаривать обязательно взять на съемку его друга, парня двадцати лет. На разъяснение, что нужны дети, которые будут сниматься голыми, последовало возражение, что зато его друг великолепно поет и пляшет...
К девяти часам утра мы привезли трех цыганских детей на фабрику. Они оказались очень милы и веселы, особенно девочка с длинными распущенными волосами. По-русски они не понимали, переводчиком служил все тот же молодой цыган, очевидно, и он сам и дети были очень понятливы и способны — съемка шла прекрасно. В двенадцать часов дня был сделан обеденный перерыв, детей повели в столовую, накормили супом и жареным мясом, а потом вернулись в павильон, но снимать было уже невозможно — дети «опьянели» от горячей пищи.
Кстати, несколько моих личных соображений по поводу распорядка дня на детских съемках. Считается, что детей можно снимать только четыре часа, то есть больше тoгo времени ребенок не должен находиться в помещении студии. Опыт показывает, что, пока ребенок привыкнет к окружающей обстановке и начнет хорошо, свободно себя чувствовать, проходит около двух часов, только после этого с ним можно работать. Даже такие маленькие дети, как шестилетние, прекрасно снимаются больше четырех часов без всякого утомления. Мне кажется, что увеличение съемочного дня ребенка дает хороший качественный результат в работе и, кроме того, сокращает общее количество дней пребывания его на студии. Вероятно, нормы детских съемок в будущем будут пересмотрены.
Ну вот, пожалуй, все, что стоило рассказать о съемках этой картины, хотя еще следует упомянуть о замечательном нашем консультанте — директоре Московского музея игрушки, художнике Н. Д. Бартраме. Для меня Бартрам был «сущим кладом» — без него я нигде, ни в каких книгах не получила бы исчерпывающих сведений о всех эпохах развития русской кустарной игрушки, исторических условиях ее возникновения и производства. Бартрам часами рассказывал мне о знаменитых кустарях, их работе, творческих особенностях, их произведениях. При музее была мастерская резной игрушки, в которой создавались новые образцы. Там я познакомилась с мастером-стариком, рассказавшим мне о тайнах и приемах его ремесла. Он присутствовал на наших съемках и сам снимался за работой, вырезая игрушки. Бартрам, к несчастью, умер, когда я еще не кончила картину.
Л.Кулешов А. Хохлова «50 лет в кино» М, «Искусство» 1975. стр. 121-131