<...>
Первое мое знакомство с искусством кино произошло в 1921 году. Один из пионеров советского кино — режиссер И. Перестиани предложил мне сниматься в картине «Убийство генерала Грязнова».
Я не спал всю ночь, думая, кого же мне поручат играть? Мои мечты не простирались дальше какой-либо роли в массовке. И вдруг... мне поручили главную роль Арсена Джорджиашвили.
Трудно описать мое состояние... я играл дома, в гостях, в мастерской, на улице... я обдумывал каждый жест, каждое слово и поставил себе задачей — играть лучше... Мозжухина, который считался тогда лучшим актером «синематографа» и играл с большим нажимом и богатой «мимографией». Легко себе представить, как я вертелся перед аппаратом, как хмурил брови и таращил глаза.
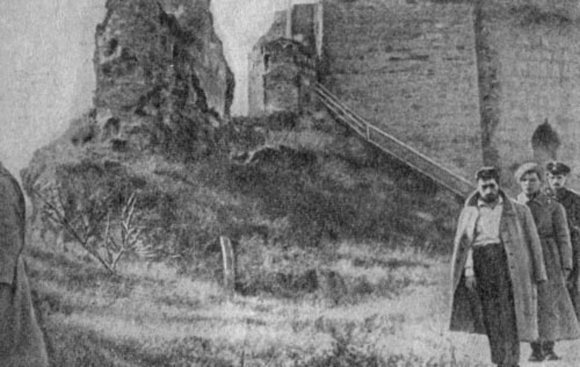
Снялся я еще в нескольких картинах (последней из них была комедия «Ханума»), но с каждым разом я все меньше и меньше нравился себе на экране и, в конце концов, решил бросить ремесло актера. Однако я не хотел уходить из кино. Я видел уже работы Эйзенштейна, Пудовкина, я знал уже о талантливых ленинградских мастерах, видел, что поднимается новое, настоящее и большое искусство кинематографа. И я решил стать кинорежиссером.
В советской кинематографии тех лет наметились два направления — московское и ленинградское. Объяснить, как я ощущал разницу между ними, можно только при помощи примера из области живописи.
Художник и историк искусства Игорь Грабарь, оценивая работы некоторых наших живописцев, говорит, что они далеки от правильного ощущения природы, природа никогда не бывает такой розовой или оранжевой, как на полотнах Рубенса или Рембрандта. Что же Рубенс и Рембрандт не видели природы? Дело оказывается не в этом. Рубенс и Рембрандт писали иначе, чем видим мы это сейчас в их произведениях; время наложило на картины теплоту и лак, от времени они стали розово-оранжевыми, теплыми, а художники же принимают этот отпечаток времени за высокое искусство мастера, и вместо того, чтобы глядеть в природу, правильно изображать ее, рисуют ее такой, как выглядит она с полотен старых мастеров.
Для меня суровая правда природы в кино глядела всегда с работ московских мастеров, а розово-оранжевая эстетствующая пелена прикрывала прозрачной вуалью работы ленинградцев. Вот почему я воспринимал Всеволода Пудовкина как художника огромной реалистической силы.
«Мать» и «Конец Санкт-Петербурга» были первыми произведениями, в которых появился настоящий, а не механический человек, с настоящей психологией. До сих пор не могу забыть того восторга, которым я был полон после просмотра «Матери». Эта картина, больше чем остальные была близка мне по духу. Для меня все яснее становилась сила киноискусства, которое стало целью моей жизни.
Первой моей режиссерской работой в кино была картина «1 час 45 минут». То были времена ЛЕФ-а, имажинизма, конструктивизма. Я отдал дань духу времени и больше думал не о содержании картины, не об идее ее, а о внешней стороне, а о внешней форме выражения; дом, снятый сверху, дом, снятый снизу, ракурсом, под разными углами зрения.
Я не жалею теперь об этой ошибочной работе, она помогла мне по крайне мере практически освоиться с принципами построения кадра.
В этой области много полезного сделал Лев Кулешов. Он первый показал, как надо пользоваться четырехугольником кинокадра со всеми его диагоналями, первыми и вторыми планами, перспективой, а также элементами композиции, ритмического монтажа.
Ненужные выкрутасы, формалистические изыскания остались позади, все ценное, полезное для создания культуры кинокадра живо и помогает в работе сегодня.
Второй моей постановкой была картина «Первый корнет Стрешнев», сделанная совместно с режиссером Дзиганом.

После этой картины я понял, что ни первая, ни вторая моя работы никак не говорят о моем индивидуальном творческом лице. Надо находить себя, свое «я» в искусстве.
Лицо художника неотрывно от его Родины, от той национальной почвы, которой он воспитан, от народа, нравы, обычаи и искусство которого выпестовали его. Мало этого, художник обязан в своем мировоззрении выражать стремления народа, его чаяния, его волю, его народную мудрость. Так творили Толстой, Достоевский, Пушкин, Римский-Корсаков, Репин. Отсюда возник гениальный Перов с его незабываемыми жанровыми картинами.
Национальный эпос, фольклор питали меня в следующих моих работах.
Наступил день, когда грузинская национальная кинематография вступила на путь большой советской кинематографии. Покойный Н. Шенгелая сделал замечательный фильм «Элисо».
В те дни я работал над фильмом «Саба» (1929). Этот фильм — сочетание влияний Голливуда, Парижа и грузинской советской национальной кинематографии. Здесь, впрочем, была также отдана дань «Пролеткульту», и «Синей блузе», и (в психологических характеристиках)... Достоевскому. Картина была хорошо принята, но сейчас, анализируя ее, я вижу, насколько эклектичной и незрелой она была.
Гораздо цельнее и интереснее следующая за ней «Хабарда» (1931). Я считаю «Хабарду» первым своим творческим дерзанием в области кинорежиссуры. Она была сделана от чистого сердца. Темой этого фильма были отщепенцы грузинского общества, боровшиеся против прогрессивного русского влияния в старые годы и продолжавшие эту борьбу после Октябрьского переворота, не замечая великих сдвигов, произошедших в Советском государстве.
Мне хотелось сделать фильм-памфлет. Надо было найти форму. Я обратился к творчеству великих мастеров сатиры — художникам Доре, Домье, Гойя и русским карикатуристам, прочел еще раз книги Рабле и Сервантеса, Фонвизина и Гоголя, комедии Островского, Чавчавадзе. Первые давали рисунок человека двумя-тремя штрихами; вторые — гениальным писательским мастерством раскрывали его сущность.
Мировоззрение советского художника помогло мне в этой работе. «Хабарда» получилась острым политическим памфлетом, вызвавшим много споров в Грузии.
<...>
РГАЛИ. Ф. 2581. Оп. 1. Дело 177.