
Сон и мечта владеют персонажами Шукшина с равной силой. Способы их воздействия разные: мечта скорее не «думается», а «чудится, ждется», сон же «накатывает», «берет за плечи, валит», «гнет», но оба состояния выводят за границу обыденной жизни.
Мечта и сон в кинематографе Шукшина (а кинематограф и есть одно большое сновидение) сливаются воедино. Мечта — сон наяву, сон — забвение душой тела. В своем первом фильме, дипломной работе «Из Лебяжьего сообщают», Шукшин насылает внезапный сон, выбивающийся из тридцатиминутной передовицы о буднях райкома партии, на секретаря райкома Байкалова. Увиденный сон остается за кадрами фильма, но его нездешний отсвет смягчает черты лица Байкалова, превращая уставшего, эмоционально сдержанного человека в удивленного ребенка.

Реальная жизнь Паши Колокольникова («Живет такой парень») — шофера, балагура, неудачника в амурных делах — преображается во сне, как в волшебном зеркале. Вместо шоферской фуражки — генеральский мундир; женщины, виновницы его сердечных страданий, оборачиваются в пациенток с сердечными болезнями; трепет и почтение к его речам сменяют привычную насмешку. Образ генерала, собирающий воедино героизм и социальное превосходство, — недосягаемая мечта Паши о себе самом. Сон материализует эту мечту, но случившееся во сне перевоплощение не может изменить жизнерадостную и неамбициозную сущность самого Паши. И, как подтверждение надуманности желаемого, смех спящего соседа прерывает Пашин сон.
Человек зажат между двумя крутящимися колесами — рутинностью жизни и надвигающейся смертью, мечта — неожиданная дорога между двух колес, и туда устремляются странные беспокойные души героев Шукшина.
Семка Рысь («Мастер»), тяжелый, сумбурный человек с репутацией «забулдыги, но непревзойденного столяра», услышал идущий через века нежный зов красоты, различимый лишь чуткой душой художника. Кто его позвал — безмолвная ли красота церкви или дух «истлевшего в земле» безымянного мастера — «он сам не знал». И, «обеспокоенный красотой и тайной», Семка возжелал завершить незаконченную мастером работу.
Однако получить помощь на реставрацию восточной стены церкви, чтобы «церковка в ясные дни загоралась бы с верхней маковки и постепенно занималась бы светлым огнем вся», ему не удается ни у церковных, ни у светских властей. Церковь «как памятник архитектуры ценности не представляет», не представляет ценности и воздвигнувший ее архитектор, как и бесполезна для общества мечта его последователя Семки.
С тех пор он про талицкую церковь не заикался, никогда не ходил к ней, а если случалось ехать талицкой дорогой, он у косогора поворачивался спиной к церкви, смотрел на речку, на луга за речкой, зло курил и молчал.
Отвергнутая людьми красота церкви — поруганная мечта Семки, и пережить ее потерю он может, только забыв мечту навсегда.

В рассказе «Стенька Разин» образ самобытного художника воплощает двадцатичетырехлетний Васёка без определенной профессии. За его спиной стоит фигура другого человека, тихого, пьющего, но сильного мечтательским духом учителя Вадима Захаровича. Собственная жизнь учителя проходит незаметно, взор его обращен в далекое прошлое, где Стенька Разин от Дона до Волги поднимает народ на борьбу за свободу. Мечта Разина о воле заканчивается пленением и казнью на Болотной площади, размах этой мечты и ее крушение переживает учитель снова и снова. Сила его любви и боли так велика, что Васёка, попав под ее излучение, создает из дерева скульптуру плененного Стеньки.
Слабое тело Захарыча содрогалось от рыданий. Он закрыл лицо маленькими ладонями. Васёка мучительно сморщился и заморгал.
— Не надо, Захарыч...
— Что не надо-то? — сердито воскликнул Захарыч, и закрутил головой, и замычал. — Они же дух из него вышибают!..
Васёка сел на табуретку и тоже заплакал — зло и обильно. Сидели и плакали.
Мечта подчиняет человека. Под ее воздействием совершаются сумасбродные поступки, но внутренний механизм мечты, скрытый от окружающих, гораздо сложнее ее нелепого внешнего воплощения. Так ужас перед смертью, желание понять ее причину побуждают столяра Андрея Ерина купить микроскоп («Микроскоп»), а размышления о хаосе существования без внешнего управления подвигают Николая Князева («Штрихи к портрету») на создание трактата о государстве. Моне Квасову «влетела в лоб идея» создать вечный двигатель. Пренебрегая законами термодинамики, он, казалось бы, находит верное решение. «Ничего вроде не изменилось, но какая желанная, дорогая сделалась жизнь».
Вечный двигатель — метафора вечной жизни, а вечное движение возможно лишь за счет мечтателей, но именно их жизнь вытесняет из своего чрева в первую очередь. Человек, чтобы выжить, вынужден быть прагматичным, и бесполезный мечтатель, не нужный ни семье, ни обществу, становится изгоем.
Непонимание людей, борьба за жизнеспособность мечты вызывает сначала ярость, а следом усталость. Мечтатель оставляет мечту, заставляя себя больше не оглядываться на ее колдовской призыв.
Белый самолет, на который так и не смел взглянуть рассказчик из «Детских лет Ивана Попова», — «перенос» состоявшегося разрыва человека со своей мечтой.
А на горе ‹…› стоял... самолет. ‹…› никого рядом не было — можно подойти и потрогать... Раньше нам приходилось — редко — видеть самолет в небе. ‹…› Я так и ахнул. Да все мы слегка ошалели. И городские — тоже. Но они скоро взяли себя в руки, притворяшки. ‹…›
И пошли, не глядя больше на самолет.
Мы пошли за ними и тоже старались не смотреть на самолет <...> шли и не оглядывались. Когда я не выдержал и все-таки оглянулся, меня кто-то из наших крепко дернул за рукав.
Он мне, этот самолет, снился потом. Много раз после приходилось ходить горой, мимо аэродрома, но самолета там не было — он летал. И теперь он стоит у меня в глазах — большой, легкий, красивый...
Дрема — временное забытье между мечтой и сном. В юношестве забывшееся дремой «сердце как-то вдруг сладко замрет, и некий беспричинный восторг захочет поднять зеленого еще человечка в полный рост, и человечек ясно поймет: я есть в этом мире!» («Я пришел дать вам волю»).
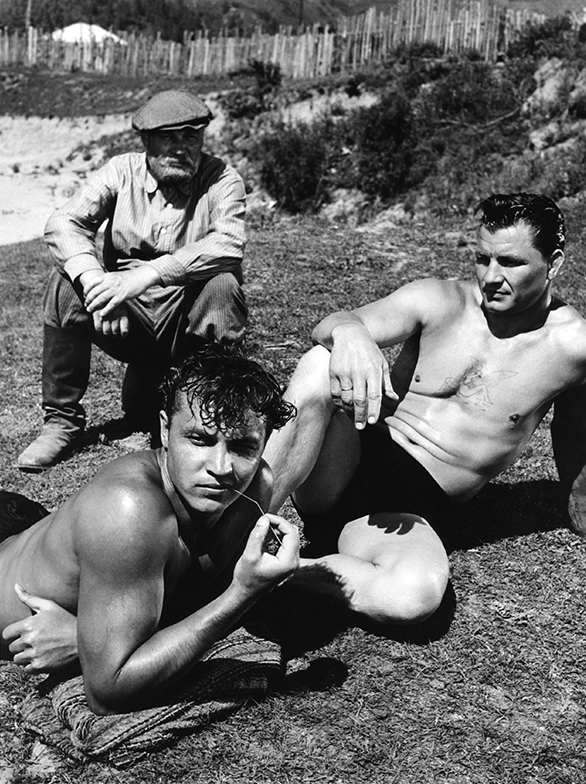
В старости же тяжесть навалившейся дремы уже не дает подняться. Вместо мечты к героям приходят тяжелые думы, и если мечта живет образами будущего, то думы питаются воспоминаниями, перерождаются в сны.
— Думы одолели нашего атамана, — сказал Иван.
— Думы... — откликнулся Стырь. — Думы — они и есть думы.
Мечты, неотделимые от жизни, и сны, сливающиеся со смертью, используют одни и те же символы. Так вольный конь, на котором летит сквозь черную ночь двенадцатилетний Матвей («Думы»), спотыкается и сбрасывает на землю Стеньку Разина. («Я пришел дать вам волю»). Широкая летняя река в мареве заката, на берегу которой Cтенька Разин хочет «сидеть калекой, стругать лодочки... если порубят где-нибудь на бою не до смерти», заливается в его сне «нездоровым светом красной луны». Народными песнями, так сладко волнующими живую душу, во снах оплакивается смерть.
— Что ж ты ему такую... печальную поешь? — спросил Степан.
— Пошто печальную? — удивилась старуха. — Ему лучше будет. Хорошо будет. Ты не дослушал, дослушай-ка:
Спи, Ванюшка, спи, родной,
Вечный табе упокой:
Твоим ноженькам тепло,
И головушке...
Пошел в танце по кругу Гринька Малюгин («Гринька Малюгин»), «да так здорово пошел — у самого сердце радуется». Снится Степану Разину, как пляшет в смертной агонии «бабочкой в цветах» персидская княжна и падает на землю, срубленная саблей.

Два мира — живых и мертвых — смыкаются над человеком через его сон.
Мерещились Егору какие-то странные, красные сны... Разнимали в небе огромный красный полог, и из-за него шли и шли большие уродливые люди. Они вихлялись, размахивали руками. Лиц у них не было, и не слышно было, что они смеются, но Егор понимал это: они смеялись. Становилось жутко: он хотел уйти куда-нибудь от этих людей, а они все шли и шли на него, Егор вскрикивал и шевелился; на лице отображались ужас и страдание («Любавины»).
Череда мертвых (умершие племянницы Нюра и Валя, маленький старичок с бородкой, два мальчика в сутаночках, девушка-сиротка) посещают мать — героиню рассказа «Сны матери», предупреждая ее о грядущем горе или утешая наградой вечной жизни в «большом-большом» городе. Сновидения матери похожи на сказку, и мотив волшебства, проходящий насквозь, соединяет воедино двойственный смысл смерти — путешествия и конца пути. В рассказе «Из детских лет Ивана Попова» мать называет навалившийся на сына «сладкий тягучий сон» — «обломоном», но сладость такого сна обманчива, и может обернуться не пробуждением, а тяжестью могильного камня.
Сон и мечта — не только стержневое содержание жизни героев Шукшина, но и его собственной. Мечта воплотить образ Стеньки Разина, рассказать его историю своим голосом преследовала Шукшина до самой смерти. На пути к ее осуществлению Василий Макарович преодолевал препятствие за препятствием, пока вечный сон в каюте корабля «Дунай» на реке Дон не разъединил мечтателя с жизнью, но навсегда соединил с мечтой.