
Барская надеялась, что ее первым режиссерским опытом станет давно вынашиваемая картина «об отношениях в семье и школе», но ее убедили, что рассказать детям о том, «как делается социалистический хлеб», на сегодня актуальнее. 10 февраля 1930 года между Маргаритой Барской и АО «Востоккино» был заключен договор на написание сценария «детской фильмы в трех частях для школьного возраста, популяризирующей идею смычки города с деревней и коллективизацию сельского хозяйства, согласно прилагаемой при сем установке...». При этом готовый сценарий ей надо было сдать к... 1 марта!
Такая стремительность становится понятной благодаря еще одному документу: оказывается, что еще в августе 1929-го «Востоккино» получило заказ от Главсоцвоса Наркомпроса на два короткометражных школьных фильма «на тему о хлебе и смычке города с деревней». К моменту появления Барской три четверти ориентировочной стоимости фильмов студии уже были перечислены, срок договора истекал, а у «Востоккино», как видим, не было даже еще сценария. Срок постановки фильмов определялся заказчиком в четыре с половиной месяца после утверждения реперткомом. Предполагалось, что фильмы будут сниматься параллельно разными режиссерами. В результате Барской пришлось за четыре месяца сделать три (!) фильма со сквозным сюжетом. Их она объединила в полный метр, несмотря на возражения, что детям тяжело будет смотреть такое длинное кино.
К работе над картиной она приступила 3 мая, а 14 июля написала Б. Д. Котиеву[1], председателю правления «Востоккино», служебную записку о том, что сроки могут быть сорваны по не зависящим от нее обстоятельствам: начинавший картину оператор Сазонов[2] мобилизован в армию, пришедший после него Толчан[3] «рассматривает свою работу как временную и в экспедицию ехать не может» (в титрах она его даже не укажет), и сейчас они ждут назначения третьего, не опробовав работу которого, она в экспедицию выехать не решится. Тем более что «осталось снять самые ответственные сюжетно и трудные операторские куски», многие — с применением «трюковой оптики», а позволить себе несколько дублей она не может, так как «количество пленки сокращено в середине работы» над фильмом.

Первое, что поражает при просмотре картины, — как мог далекий от сельской жизни человек в столь малые сроки скрупулезно овладеть материалом — ведь сценарий она писала сама. Как ей удалось расписать план съемок в соответствии с ритмами природы — и успеть снять и всходы, и цветы, и колосья, и насекомых с грызунами, которые появляются в определенное время. Затем поражает плотность передаваемой информации и то, как легко эта информация усваивается. Затем другая мысль — как можно вдохновиться столь обыденным, не близким тебе материалом и сделать на нем столь занимательное, увлекательное кино? Вдохновил ее, конечно же, не сам материал, а сверхзадача, цель этой работы. Ее зажгло осознание важности и нужности того, что ей доверили сделать, и то, что этого до нее еще никто не делал. «У меня никогда не было страха, когда надо идти на совсем новое дело», — признается она, — хотя бы все начинать сначала, хотя бы самую черную работу. А на дела уже сложившиеся, имеющие традиции, всегда боюсь, что чего-нибудь не знаю и не сумею»[4]. Поэтому она с головой ушла в материал, со страстью и вдохновением изобретая, как привлечь, удержать, подстегнуть внимание зрителя, вызвать у него нужную эмоцию и донести нужную мысль. В дневнике она формулирует:
«Я не признаю этого нелепого разделения на „художественное“ — особо, „политпросвет“ — особо, и „культурфильм“ — особо... Я покажу этим [неразб.], как хронику делать...»
В фильмотеке она достает редкостные кадры — такую, к примеру, диковинку, как плавучие мельницы. Придумывает «живые» диаграммы. Сверхкрупными планами — которые едва вмещаются в экран, — снимает симпатичных мышек и сусликов так, что они превращаются в монстров.

Как заинтересовать зрителя процессом закладки в норы потравы для мышей? Оказывается, можно. Достаточно ввести в кадр забавного котенка, который озабоченно наблюдает за процессом и решает в итоге уйти на пашню единоличника, так как на колхозной — мышей не будет... Как закрепить эмоциональным ударом и без того впечатляющую картину разорения молодых побегов вредителями? Крупно: рука погружается в рыхлую землю, скорбное лицо мужика — на ладони хилый кустик, лишенный корней. Ребенок, плача, теребит отца: «Тятя, а где же хлебушко?». «Вот тебе хлебушко!» — сурово роняет отец. Крупно: проволочники расползаются под еще уцелевшие редкие всходы...
Поразительно эффектны драматургия внутрикадрового движения плугарей и тракторов — то параллельно, то встречно, в разных ракурсах и крупностях, со множеством перебивок крупными планами движущихся, вращающихся, мелькающих деталей; пересечение в монтажных стыках стремительных потоков соломы и зерна, долгие планы крейсерским строем уходящих за горизонт тракторов и сенокосилок, окутанных светящейся дымкой пыли.
А сцена с налетом саранчи сделана на соединении патетики с юмором. Начавшись с речи «командующего»: «Хлеба созрели, приказываю лететь в СССР!», она продолжается кадрами несметных полчищ саранчи, закрывающих солнце, и вызывает в памяти знаменитую вертолетную атаку из «Апокалипсиса сегодня» Копполы... Не зря историк кино Николай Изволов, озвучивший фильм к показу в Белых Столбах «рисованной» музыкой 1930-х годов, здесь наложил «Полет валькирий» Вагнера. Во время первого показа картины на фестивале архивного кино «Белые столбы» 30 января 2009 года в зале раздавались смех, аплодисменты, изумленные восклицания: «Она же речь говорит!» (о саранче, снятой крупно, во весь экран), «Они что, оператора в землю закопали!?» (кадр, в котором комбайн проходит «над головой» камеры)... Восхитила разработка анимационного сюжета — как техническая, так и содержательная. Образы рабочего — монументальный, уравновешенный, улыбчивый, и крестьянина — плюгавенький, с жидкой бороденкой, сутулый и суетливый. Прием, который, возможно, до нее никто и не использовал, — когда внутри рисованного кадра открывается экран с реальным изображением, которое, к тому же, движется. «Замечательное же кино!» — резюмировал Марлен Мартынович Хуциев.
Современникам картина тоже понравилась. Итогом обсуждения фильма группой АРРК «Востоккино» совместно с производственным советом стало заключение, что Барская сделала не просто первую учебную ленту, нужную и интересную для всякого зрителя, но картину, которая «разрешает вопрос, какой должна быть детская фильма, до сегодня не разрешенный». В газетах тон и вовсе экстатический: «Боевик для уроков политэкономии и естествознания»! Пресса приветствует появление первой «политико-просветительной» детской картины, отмечает «чрезвычайно интересно экранизированную форму спора рабочего и крестьянина», понятность и доступность картины, подчеркивает, что «фильму „Кто важнее, что нужнее?“, предназначенную специально для школьников и пионеров, — с интересом посмотрят и любой крестьянин, и рабочий» и что «ее появление на экране снова заставляет поднять вопрос об организации специального производства детско-школьных фильм, о концентрации в этой области специальных кадров киноработников»[5].
«Нужно выбросить десятки и сотни таких фильм на дело образования, на помощь всеобщему обучению»[6], — с пафосом восклицает рецензент, скромно подписавшийся «Мих. Б.»[7].
Для Барской такие выводы, сделанные в результате знакомства с ее работой — «бальзам на душу», желанный итог. Она всегда считала, что хороший детский фильм — самое убедительное средство для внедрения идеи создания детской кинематографии и специальной студии для производства детских картин.
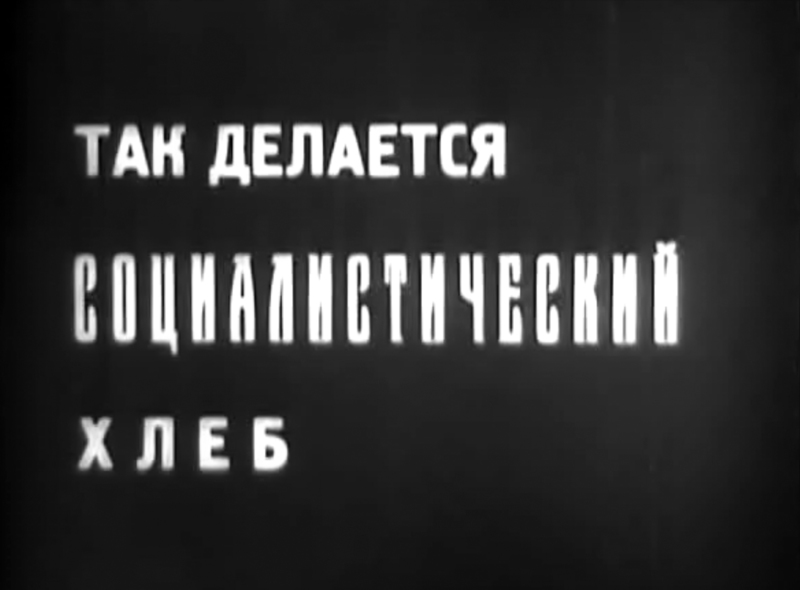
Примечания
- ^ Котиев Берд Асланбекович (1896 — дата смерти неизвестна). В 1927 году был назначен представителем Ингушской автономной области при Президиуме ВЦИК, с момента основания в 1928 году акционерного общества «Востоккино» — член Правления, в 1928–1929 годы председатель худсовета, в 1930–1935 годы — председатель Правления.
- ^ Возможно, в роли оператора здесь выступил художник, впоследствии режиссер анимации Пантелеймон Сазонов, который в 1926 году вошел в образованную Александром Ивановым группу аниматоров-экспериментаторов «ИВВОС» (ИВановВОиновСазонов).
- ^ Толчан Яков Моисеевич (1901–1993) — советский оператор, режиссер. В 1954 году окончил ВГИК. В кино с 1924 года. Участвовал в съемках фильма «Шестая часть мира» и других лентах Д. Вертова. Снял художественные фильмы «Мост через Выпь» (1928), «Солнце всходит на Западе» (1933) и другие. С 1938 года в научно-популярном кино. Снимает сюжеты для киножурналов «Наука и техника» и «Новости сельского хозяйства» (с начала их образования). Оператор фильмов «Мастера сцены» (1946), «В Третьяковской галерее» (1956) и других. С 1956 года режиссер-оператор. Продолжил работу над фильмами об изобразительном искусстве: «Кукрыниксы» и «Рокуэлл Кент» (1959), «На выставке мексиканского искусства» (1961), «Художник Н. Ярошенко» (1964), «Русский народный лубок» (1968) и другими. Поставил фильмы «Апартеид — преступление» (1965), «Помнить, хранить, гордиться» (1966). В 1931–1957 годы преподавал во ВГИКе.
- ^ Фрагмент на обрывке листа, машинопись.
- ^ «[Комсомольская] правда», ноябрь 1930 г.
- ^ «Кто важнее — что нужнее», Мих. Б., газета «Кино», ноябрь 1930 г.
- ^ Предположительно, Блейман Михаил Юрьевич (1904–1973) — критик, сценарист.