Итак, весной 1928 года наш «коллектив» окончательно соединился с киношколой (тогда ГТК). Работа только в ГТК нас не удовлетворяла, и Кулешову пришлось согласиться поступить на службу в «Межрабпом-Русь», а мне думать об отдельной, самостоятельной работе на производстве. Читателю, вероятно, интересно узнать, как раньше работал рядовой режиссер, и тем более женщина.
Виктор Борисович Шкловский посоветовал мне сделать горьковский киносборник. В мае 1928 года после большого перерыва Горький возвращался в Москву из Италии. Мы решили начать сборник хроникальными съемками его приезда, а потом показать инсценировки рассказов «Страсти-Мордасти», «Двадцать шесть и одна», «Клоун» и «Дело с застежками».
Сначала я принялась за работу над сценариями по рассказам «Клоун» и «Страсти-Мордасти». Их мне помог сделать Шкловский, а «Дело с застежками», как помню, мне не удавалось. Тогда я поделилась своими затруднениями с Осипом Максимовичем Бриком. Когда я рассказала ему все, что собираюсь делать, с начала до конца — невольно все сложилось так, как и было осуществлено на экране. Не раз мы убеждались: в процессе рассказа другому задуманного, но еще не оформленного отчетливо в сознании — все додумывается и проясняется (этому мы учили и учим до сих пор наших студентов).
Когда сценарии были готовы, начались мои мытарства по кинофабрикам: надо было наняться на работу, уговорить поставить написанное. Ведь в те времена кинематографическая молодежь не имела постоянной службы, а нанималась на работу аккордно, по договорам. Итак: мне во что бы то ни стало надо уговорить поставить горьковский сборник. Сделать это мне было трудно. Я привыкла работать в коллективе, думать и говорить — «мы», теперь на производстве я осталась одна, говорить в единственном числе, просить от своего имени было непривычно, трудно и даже для себя самой неубедительно.
Работы я добивалась энергично — ездила в Ленинград на кинофабрику Белгоскино (белорусская студия, находившаяся тогда в Ленинграде) и — «Ленфильм», но без всякого результата. Правда, в Москве, в «МежрабпомРусь», меня приняли чрезвычайно любезно, и Моисей Никифорович Алейников — вершитель всех дел фирмы — сказал, что его исключительно интересует Горький и он охотно рискнет дать начинающему режиссеру постановку, но при условии, что оператор, актеры, ассистент, помощники будут намечаться и выбираться не режиссером, а только им, Алейниковым.
Я больше всего верила (и сейчас верю) в успех работы сплоченного единомыслящего коллектива. О такой работе в «Руси» не могло быть и речи, не могла я пойти и на отказ от права режиссера намечать себе наиболее подходящих по творческому единомыслию членов съемочной группы. Поэтому мы с Алейниковым не договорились.
Параллельно я вела переговоры с 1-й кинофабрикой Госкино. Там прочли сценарии, но сочли возможным говорить о постановке только одного — «Дело с застежками». Главрепертком дал на это предварительное разрешение при условии, что Алексей Максимович не будет возражать против экранизации.
Тут следует вспомнить о разнице подхода к молодым работникам со стороны 1-й кинофабрики (государственной с самого начала) и «Межрабпом-Русь», хранящей еще дореволюционные коммерческие традиции.
В 1927 году я нанималась на роль журналистки в Госкино. Со мной разговаривал директор кинофабрики Илья Павлович Трайнин. Он сказал: — Вы будете получать тот минимум зарплаты, который разрешит профсоюз. Я робко спросила: — А костюмы? — В картине нужно только одно приличное платье, которого, правда, я на вас никогда не видал... (Я разговаривала с Трайниным в кожаном пальто. Когда вышли из кабинета, мне шофер директора сказал: «Какое у вас приличное пальто, Александра Сергеевна!») В то же время мой товарищ Фогель, одинаковый со мной по стажу, положению и квалификации, договаривался о работе в «Руси» с М. Н. Алейниковым, который ему сказал иначе: — Мы любим и ценим молодежь. Наша фабрика вас никогда не обидит, мы даем вам максимальный оклад.
В результате я в Госкино получала двести семьдесят рублей в месяц, а Фогель в «Руси» — двести сорок рублей.
Возвращаюсь к прерванному рассказу. Алексей Максимович по приезде в Москву остановился на квартире своей первой жены Екатерины Павловны Пешковой. Я была знакома с Алексеем Максимовичем через Шаляпина, но все-таки одна к нему пойти не решилась. Наш друг С. Н. Тройницкий вызвался меня повести в гости к писателю.
Когда мы вошли в квартиру, первое, что мне бросилось в глаза, — большой бюст Алексея Максимовича, сделанный из какого-то черного материала (камня или чугуна), к которому были приклеены настоящие щетинистые волосы, изображавшие прическу и усы. В комнате сидел сын Алексея Максимовича, потом вошел сам писатель, поздоровался и, поняв наше изумление, сказал, показывая на бюст и сына: «Это мы развлекаемся. В Ленинграде подарили, а мы развлекаемся... наклеиваем...» Алексей Максимович повел нас в отдельную комнату, и мы приступили к делу. Я рассказала свою идею, план, показала сценарий.
Говоря о «Двадцать шесть и одна», Алексей Максимович начал вспоминать про булочки, которые он делал в пекарне, и объяснил, что теперь их количество на фунт теста не совпадает с тем, что было раньше. Потом начал говорить о кинематографе, о том, что какая-то актриса прислала ему сценарий, написанный по одному из его произведений, а он отказался ей дать разрешение на инсценировку, и вообще он считает себя — не для кинематографа, а кинематограф — не для себя.
Тогда я стала говорить, что мне хочется так сделать постановку, чтобы на экране не чувствовались актеры, а люди были бы как настоящие. Алексей Максимович оживился и сказал: «Да, когда чувствуются актеры, это самое ужасное». Потом он написал записку в Госкино: «Дорогие товарищи, инсценировку рассказа моего „Дело с застежками“ разрешаю. Говорю о сценарии Хохловой».
К сожалению, эта записка потерялась в недрах архивов 1-й госкинофабрики, но в издании сочинений А. М. Горького она упоминается.
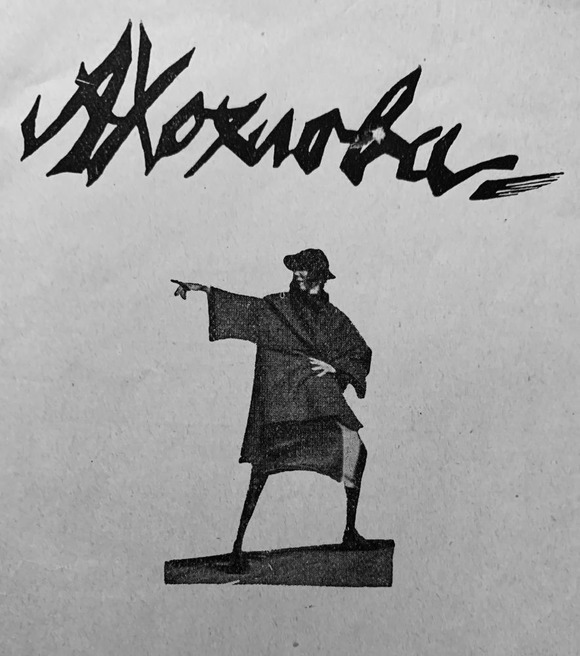
Я начала готовиться к постановке, но Госкино все медлило с окончательным решением. Лето уходило (а съемка в основном предполагалась на натуре), и положение становилось почти безнадежным. Вдруг 30 августа в шесть часов утра мне позвонил Трайнин и предложил немедленно выезжать на съемку, так как таковая разрешена, и я приказом зачислена на работу по картине. Поскольку, несмотря на неопределенность положения, я уже провела всю подготовку к съемкам на свой страх и риск — подобрала группу актеров, костюмы,— внезапный приказ директора был выполнен, и мы в тот же день начали работу. Погода была против нас. Весь сентябрь мы сидели на натуре, ждали солнца и «по капелькам» производили съемку. В картине по плану было шестнадцать съемочных дней, а осень была пасмурная, дождливая.
В роли старушки снималась актриса Г. Ивановская. Я одновременно договаривалась и с ней, и с Блюменталь-Тамариной, которая была занята и отказалась сниматься. Узнав об этом обстоятельстве, Ивановская гневно воскликнула: «Сорок пять лет эта женщина стоит на моей дороге! Помните, когда театр Корша был еще в помещении, где сейчас МХАТ, еще тогда она начала свои козни...»
Я ответила, что сорок пять лет тому назад не существовала и помнить этого не могу. Но на съемках Ивановская оказалась отличным работником — с хорошим удобным характером, старательная и неутомимая. Она беспрекословно и терпеливо ждала проблесков солнца, а это занятие чрезвычайно утомительно даже для молодых киноактеров.
Интересно, как мы справлялись с бытовыми деталями постановки — время проходит быстро, старое забывается, а молодежь его знает только по рассказам. Помню, как над постановкой декорации часовни работал молодой художник, он постоянно путался в церковной бутафории и однажды спросил меня: «Какая разница между ризой и аналоем?» Это было очень смешно, потому что риза — облачение священника, а аналой — столик, кафедра, на которую кладутся книги. Но вскоре я сама стала в тупик, не зная, что священник должен надевать на молебен — ризу или епитрахиль. Тут нам пришел на помощь один актер, приглашенный с биржи труда. «Можно и так, и так, но в ризе дороже платят». «Эрудиция» этого товарища совершенно точно объяснила нам его прошлую профессию.
Снимать картину было трудно, в особенности мучила погоня за уходящим осенним солнцем. Чтобы не запутаться во всех сложностях, я старалась детально подготавливать работу и ставить перед собой конкретные, четкие задачи — это нас спасало. Солнца хватило, и съемки были закончены к первым заморозкам.
Когда я сдавала картину, кто-то из начальства спросил — откуда мне удалось достать настоящих босяков для съемки. Пришлось сознаться, что один из босяков был много снимавшийся ученик Кулешова актер и художник Галаджев, а два другие — студенты ГТК.
После «Дела с застежками», к моему счастью, хорошо принятого публикой и кинообщественностью, Главрепертком рекомендовал меня на работу в Ленинград на кинофабрику Белгоскино. Это была молодая, маленькая фабрика. В ней работал дружный и симпатичный коллектив: нас было четверо молодых начинающих режиссеров — Файнциммер, Корш, Левшин и я — и один маститый — Тарич. Тарич кричал на дирекцию и делал все, что хотел, дирекция кричала на нас, молодых. Самое трудное на фабрике было утвердить смету. «— Ваша картина должна стоить не восемьдесят, а шестьдесят тысяч», — говорил директор Файнциммеру. — Хорошо, — отвечал Файнциммер. Картину снимали. Но она обходилась в восемьдесят тысяч рублей... Смета на мою картину определялась суммой в шестьдесят тысяч рублей. «— Это название может стоить только сорок», — сказал директор. Я начала с ним спорить и доказывать, что «стоит» не название, а автомобили, массовки, декорации, и если надо уменьшить расходы на постановку, то надо сократить сценарий. По обоюдному договору мы сократили сценарий, доведя смету до пятидесяти тысяч. Картина в эту сумму и обошлась.
(...)
Параллельно с производством я вела общественную работу в нашем профсоюзе. Уже говорилось, что в те времена все съемки, все картины мы делали аккордно, по договорам, ни актеров, ни молодых режиссеров в штатах фабрик не держали. Поэтому все мы крепко и непосредственно были связаны с профсоюзом и деловыми и общественными взаимоотношениями.
Профсоюзная деятельность была для нас органичной и необходимой. Так, например, я и Кулешов много лет подряд вели кружки по повышению квалификации актеров — членов союза. Много молодежи, окончившей и не окончившей специальные школы и вузы, актеры средних лет и даже старики и старушки — охотно, с увлечением работали в этих кружках. Когда группы доходили до девяноста человек, то при таком составе очень трудно было устанавливать настоящую дисциплину, тем более что все делалось на добровольных началах. Актеры опаздывали от пятнадцати минут до часа, занятия растягивались и начали приобретать любительский характер. Тогда я сказала, что буду работать только с теми, кто приходит вовремя, и только у них буду принимать этюды и отрывки. Желание и интерес к работе были настолько велики, что опоздания совершенно прекратились и дальнейшие занятия продолжались образцово.
Работа в профсоюзных кружках принесла мне огромную пользу — давала режиссерскую и педагогическую практику. Кроме того, я очень хорошо узнала актерский состав профсоюза. Мне стало легче работать на съемках, так как я теперь знала людей, знала, кто, что и как может делать.
Л.Кулешов А. Хохлова «50 лет в кино» М, «Искусство» 1975. стр. 121-131