Мифологическое повествование особенно ярко выражено в таком фильме Параджанова, как «Цвет граната». ‹…›
Подчеркнуто этнографический характер фильмов Сергея Параджанова располагает к поиску архетипов, архаичных праэлементов. Для него спонтанный мифологизм «pensée sauvage» (термин Леви-Стросса) — не абстракция художественного вымысла, а присутствующая в современности реальность.
В своеобразной системе параджановского мышления сложный характер логических связей мифологического повествования отражает музыкальное начало, определяющее и композиционное пространство фильма. Музыка в фильмах Параджанова играет субстанциональную роль как на семантическом уровне, так и на синтаксическом. ‹…›

Параджанов в своих фильмах, и особенно в «Цвете граната», использует приемы экспозиционного изложения материала, причем не только в начале каждой новеллы, а постоянно по ходу фильма; там же, где отсутствует сюжетное развитие и внимание концентрируется на созерцании образов, — приемы варьированного повтора.
В фильмах режиссера встречаются популярные в кинематографе образные реминисценции и своеобразные музыкальные ritenuto движения — стоп-кадры, в которых происходит изменение функций отдельных элементов, их новое композиционное положение и посредством этого — иная смысловая акцентуация. Ведь интонационное переосмысление определенных мелодических фигур воздействует на структурное образование в целом.
Параджанов, для которого в «Цвете граната» цвет имеет активное семантическое значение, использует и чисто цветовые (в музыке это темброво-колористические) вариации (к примеру, в сцене с кружевами разных цветов, которые плетет Анна), и композиционные (варьирование той же мизансцены), и орнаментальные (вращение куклы-маятника), и
Поразительной параджановской изобретательности варьирования может позавидовать любой композитор, сочиняющий вариации на собственные заданные темы. И как композитор, режиссер особенно тщательно подходит к вопросу фактуры, которая в музыке является материальным воплощением звучащей материи. Характер соотношения и функции всех слоев музыкальной ткани произведения обусловливают тип фактуры: полифонической при равнодействии всех голосов, гармонической при ведущем значении одного-двух голосов и мелодической, совмещающей оба эти типа, то есть когда мелодическую самостоятельность обретает каждый из голосов.
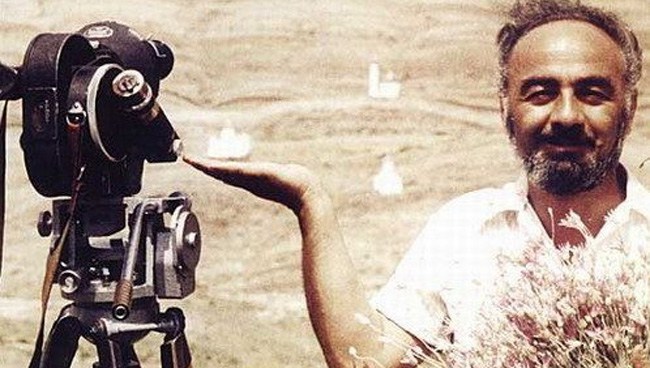
Методологический подход Параджанова к фактурности аналогичен описанному музыкальному. Компоновка кадров в его фильмах может быть проанализирована через призму музыкальной фактуры.
В экспозиционных эпизодах Параджанов предпочитает использовать тип мелодической фактуры, позволяющей индивидуализировать отдельные линии образных или предметных рядов, переключая внимание зрителя с одной на другую. «Перескоки», фиксация зрения на разных объектах естественны для кинематографа и не выглядят столь резким приемом развития материала, как в музыке.
Полифонический и гармонический типы фактуры, используемые для развития или разработки материала, являются более излюбленными для Параджанова. Полифоническому типу фактуры в его фильмах, как правило, не присуще обилие голосов (правда, есть и исключения, например, эпизод «Царские игры» в «Цвете граната» и близкий ему по решению эпизод «Царь и народные игрища» в фильме «Легенда о Сурамской крепости»), что позволяет предельно подчеркнуть каждую фактурную линию, ее самостоятельное поведение и функциональную независимость. Таких эпизодов множество. Обычно они даются крупным планом. Один из них — трехголосная инвенция — заключительный эпизод «Смерть Поэта». Спокойный, мудрый в своем решении Саят-Нова, агонизирующие жертвенные петухи и неподвижная земля, от которой камера постепенно удаляется. Так что зритель как бы присутствует при вознесении бессмертной души Поэта. ‹…›
В гармоническом типе фактуры аккорд имеет аккомпанирующее значение. В «Цвете граната» под аккордом понимается многофигурное образование. Типичной иллюстрацией к сказанному могут служить сцены из монастырской жизни, где четко распределены мелодически солирующая (Поэт) и гармонически аккомпанирующая (монахи, прихожане церкви) функции. Разделение этих функций Параджанов подчеркивает разницей их пластического движения: солирующий голос пластически более интонационно разнообразен, подвижен, аккомпанирующие голоса выполняют ритмически однотипное монотонное движение.
По аналогии с музыкой фактурное развитие в «Цвете граната» пребывает в постоянной неустойчивости, то есть режиссер использует фактуру как одно из средств динамизации формы. Разумеется, не в одном чередовании фактур сокрыт смысл динамизации, тем более что кроме чередования-сопоставления разных фактур в фильме используется прием перетекания элементов одной фактуры в другую. Но внутри даже картинно оформленного кадра Параджанов различными методами варьирования, ротации, изменения контекстуальной семантики составляющих кадр единиц и их эпизодического, как бы акцентного, выделения стремится к преодолению внешне выраженной статичности. («Легенда о Сурамской крепости» тоже богата такой статикой, к примеру, эпизод «Сон и предчувствие смерти», где внешняя статика преодолена внутренней динамикой.)
В современную музыку медитативного направления вошли терминологические понятия типа «динамическая статика», «динамическое стояние», которые абсолютно отражают принципы параджановского метода. Режиссер склонен не к показу-действию, устремленному к сюжетной кульминации и следующей за ней развязке, а к длительным стояниям-размышлениям, проникающим в глубины зрительского сознания и подсознания. ‹…›
У Параджанова пиковой вершиной восточного мировосприятия стал «Цвет граната», хотя оно сказывалось и в более ранних работах, в документальных фильмах «Киевские фрески» и «Акоп Овнатанян», в художественном «Тени забытых предков», где режиссер привносит в поэтическую новеллу-притчу черты старовосточной статики, тонко сочетающейся с обрядовостью и своеобразным язычеством этого фильма. В сюжетном отношении «Тени забытых предков» — фильм достаточно активный. Но автор, кажется, все время сознательно тормозит действие, останавливает движение, полет, взмах, чтобы увидеть их сущность. После этой картины стала закономерной стилистика «Цвета граната», когда активизация восточного мышления уже была обусловлена конкретным —
Саркисян С. Цветной слух // Искусство кино. 1995. № 8.