Козинцевская версия «Короля Лира» восходит к переводу Пастернака и в основном, за исключением тех или иных купюр, придерживается его. Прожив жизнь полновластного и безжалостного правителя, Лир передает престол молодым и делит королевство, чтобы предотвратить борьбу за власть между наследниками. Тогда-то и наступает час расплаты за все его грехи. Единственная преданная ему дочь, Корделия, сослана им самим, две другие дочери, Гонерилъя и Регана, бросают его, и Лир остается один, если не считать Кента и шута. За манию величия и злоупотребление властью Лиру приходится очень дорого платить. Вынужденный физически (и духовно) влачить жизнь нищего бродяги, он теряет человеческий облик. Тема дочерней измены подчеркивается в фильме параллельной историей Глостера и его двух сыновей, Эдгара и побочного Эдмунда. В киноверсии Козинцева реальность становится метафорой надежды, которая отражает во всей первозданной мощи суть того, почему и как человек сбивается с пути в пространстве и времени в поисках утраченного «я» <...>
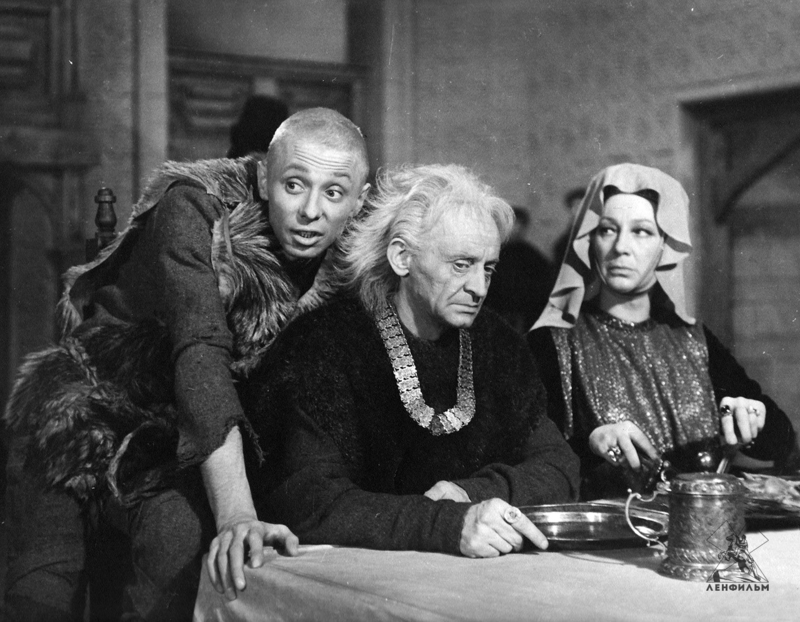
Образы смерти и насилия не индивидуализованы. Мы не видим отдельных людей, которые кричали бы от боли, вместо этого показано собирательное людское горе. Битва между войсками Корделии и войсками Реганы и Гонерильи изображена преимущественно символично. Это, конечно, связано со стремлением режиссера к минимализму в постановке, декорациях и костюмах, потому что излишество во всем этом, как он полагал, отрицательно сказалось бы на глубинном смысле его произведений. Он предпочитал мощь лирического напряжения обнаженной, беззащитной души. Он не желал ограничивать поэзию жесткими рамками темы и стремился пустить ее в свободный полет.
Земля и его картине опалена, а человеческая душа почернела от дыма самосожжения. На экране без конца горят избы, мечется скот, давятся бегущие человеческие толпы. Возникает чувство, что Козинцев ясно представляет себе, как сильно может опуститься человек, но не хочет прямо показать это в кино, чтобы не дать ему права на дальнейшее падение. <...>
Спустя десятилетия после взлета советского кино, когда у многих этот зачинательский революционный подъем сменился цинизмом и отчаянием, Козинцев, по сути, остался верен этой мечте, заново открыв провозглашенные революцией идеалы в двух источниках — Достоевском и русской религиозной традиции. <...>
Именно соотнесение Шекспира с Достоевским в козинцевском «Лире» делает его стога, неотразимым. Острая восприимчивость Козинцева к человеческому бытию и его захватывающее чувство ответственности за улучшение этого бытия, в сочетании с тонким и убедительным кинематографическим искусством демонстрируют нам отчетливую, хотя и западную по сути, веру в человека. В козинцевской трактовке Шекспира и Достоевского человечество может восторжествовать, и путь к торжеству, пусть трудный, — это путь чести. Апокалиптическая картина падения и духовного возрождения короля Лира, противопоставленных хаосу и неистовой разрушительной стихии войны, является у Козинцева эпосом христианской надежды, победной песнью преследуемых в западном мире. Корделия плачет и умирает; донельзя безутешный Лир воет. Иллюзия остается, цикл начинается снова. Козинцев верит в то, что мы как-то научимся, должны научиться, и в следующий раз у нас получится лучше. <...>
В заключительном кадре козинцевского «Короля Лира» Эдгар, законный сын Глостера, идет на неподвижную камеру и смотрит прямо в объектив. Он буквально бросает вызов зрителю: отзовись на призыв, избавь мир от несправедливости, страдания и невежества. Козинцев верит, что человечество в силах преобразовать себя, добиться совершенства в этом мире.
Тронкале Дж. Ч. «Король Лир» как перекресток западного и восточного мировоззрения // Киноведческие записки. 1995. № 27.